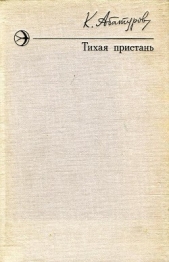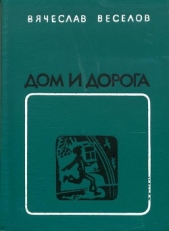Провинциальный человек

Провинциальный человек читать книгу онлайн
Верность земле, избранному делу, нравственная ответственность человека за свои помыслы и поступки — вот основные темы новой книги курганского прозаика, лауреата премии Ленинского комсомола, автора книг «Последние кони», «Пристань», «Поздний гость», «Избранное», «На вечерней заре» и др.В сборник вошли новые произведения, а также ранее увидевшие свет в уральских и столичных издательствах.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
— А в каком звании?
— Рядовой! Всю войну — кузнецом в кавалерийском полку. А после войны шофером при МТС. Ну а потом целина. Тот же фронт...
— Целину поднимали?
— Не говори! Мне бригаду вручили...
— Поди, отказывались?
— Конечно, отказывался. Боялся. К народу не представителем надо идти, а человеком. А я еще — какой человек...
— Ну и как? Уговорили...
— Было всего. В обком партии вызывали. Беседа. Хорошая вышла беседа. Секретарь обкома — душевный, знает подход. Расспросил о жизни, о делах, где воевал, в чем нуждаюсь. И так повлияли эти расспросы, что я стал не в себе. Но когда до дела дошли — я снова уперся. Не хочу бригадиром, и только. Хоть коли меня, хоть веревками связывай. Не хочу! Но он не стал больше уговаривать, улыбнулся — иди, говорит, принуждать не могу. Я думал, что ты — крестьянин, а ты — купец. Сидишь со мной и торгуешься.
Он замолчал. Сидел бледный, расстроенный. Наша старая хозяйка пошла отдыхать. Мы остались вдвоем. Я слышал его дыхание. Он дышал тяжело, с остановками, и когда останавливался — я весь замирал, напрягался, и мое дыхание тоже замирало вместе с ним, останавливалось. Но потом он снова вдыхал в себя воздух, и ко мне приходило облегчение, отступала тревога.
— Иди, говорит, иди, принуждать не могу.
Я вздрогнул от его голоса, но он улыбнулся.
— Это секретарь обкома — ко мне. И тут, знаешь, мне стало жалко. Такой человек, самый первый по области, столько время издержал на меня. А я что? Ни тпру ни ну. Ладно, говорю, согласен. Только я приказывать не умею. Он засмеялся. Такой смех напал — не остановишь, а мне-то уж стало полегче. Да и глаза у него такие хорошие — у секретаря. Сам смеется да на меня смотрит, смеется да смотрит. А потом встал на ноги, пожал мне руку и говорит: «Бригада тебе сама прикажет. Твое дело — личный пример. Будешь сам три нормы пахать — значит, пойдет дело. И бригада подтянется. А в технике ты — Илья Муромец...» Хоть и не Илья, отвечаю, но пока разбираюсь... Вот и вышел из меня бригадир.
Ананий Николаевич устал. И мне совестно, что утомил его. И так сердце слабое, да я еще подкинул нагрузочку. Но он, кажется, не собирается отдыхать. Опять стал рассказывать. Я и рад. Видно, зря напугали, что молчаливый, суровый.
— Бригада у меня была комсомольско-молодежная. Целину-то молодые поднимали. Ну и я борозды не портил.
— И приказывать научились?
— Не научился, — он смеется, ему приятно. Потом замолкает, я его не тревожу. Чувствую, что он забыл про меня, про наш стол — где-то далеко теперь, далеко. Я знаю, сам чувствовал, что есть минуты, когда на человека что-то находит, и он совсем забывает о сегодняшнем дне — о детях, о доме. В эти минуты — он весь в прошлом, так и живет, и радуется, и страдает, и смеется, и плачет. Вот почему и бывает возвратное — и любовь и надежды.
— Целина многих определила. Одних — к земле, другие сошлись, детей народили, третьи сломались. По-хорошему, конечно.
— Не понимаю.
— Поймешь! Человеку нужно испытание. Нет его — и ты завял, опустился. Нет закалки — нет человека. Вот целина и воспитывала.
— И вас тоже?
— А как? Не будь целины-то, как бы подготовился к этой встрече...
— Какой?
— Какой... Я же с горем-то прямо за ручку тогда подержался. Здорово живем, говорю, а оно по голове меня, по головушке. Да ну того больше!.. Сперва Васю Сазонова схоронил, болезнь в животе...
— Друга?
— И друга и работника. Помощником бригадира был, меня заменял постоянно. Нет, лучше давай отдохнем. А то одни тучи да мгла...
Он замолчал. Глаза потемнели и напряглись от усталости. Мне тоже грустно, хотелось на воздух, на улицу. Голова давно гудела от слов, от рассказов, и все заботы его, тревоги уже давно встали явственно перед глазами, и не было облегчения.
— Ну ладно, раз начал — продолжу... После Васи прислали мне Степана Кузьмича Кирова. Замена хорошая, но того не забыть. Не могу... Зайдешь в холодок, в березки, а там в березках, в тишине этой, как обушком на голову: «Дядя Ананий! Дядя Ананий, земля-то остыват, че не сеете?» — то Васин голос где-то в глубине, из-под самых березок. А потом мелькнет ветерок, покачнутся листочки — и все уж прошло, нету голоса. Очень уж о земле беспокоился. Хотел пахать ее, удобрять, заботиться, а она к себе позвала, укрыла на вечный сон. Каково-то родителям было — в двадцать лет хоронить. Да не вернешь нашего Васю...
Он опять замолчал. Хочу представить этого Васю, молодого целинника. Наверное, можно когда-нибудь написать о нем для примера: как землю любил, как не знал усталости его трактор, как все только начиналось у парня.
— Надо в школах про таких рассказывать. А то — техника, техника! А что одна техника? Надо, чтоб машина была продолжением души. А за душу мы отвечаем... Вон моя Нина Павловна сколько народу выучила. И меня подняла. Пожилых тоже надо учить.
— Как учить?
— Чтоб горю не поддаваться. В жизни не только солнышко. Да что, схоронил Васю Сазонова, а потом мою Шуру повезли на вечную дорогу... А вначале мы ждали сыночка. Думали для ровного счету.
Он отвел глаза от меня, сделал вид, что засмотрелся на створочку. Там отпало стекло. Но я вижу, как налились щеки тугой краснотой. Наверно, страдает, волнуется, так зачем... и я решаюсь помочь:
— Ладно. Не будем.
— Почему, почему? Не хочешь слушать, сам себе повторю. Как спасла меня Нина Павловна! Все это знают, и ты давай знай... — он почему-то сердится, дыхание снова тяжелое, с хрипами — больное сердце старается взять много воздуху, чтобы двинуть по телу кровь.
— Не увидел десятого. Не увидел и своей Александры Петровны. А потом сам — из больницы в больницу, раны сказались да с головой худо, плохо. С такого переживания разве устоит голова. Думаю, пойду вслед за Шурой, а государство сирот не бросит, подберет всех. А оно и не бросило, — и вдруг неожиданно улыбается. С лица спадает больная пленка, оно оживает, светится, будто умылось лицо. И показывает рукой на стену. Там фотография — стоит у крылечка жена его, Нина Павловна, молодая еще, в легком платье, в платочке, наверно, был теплый день.
— Вот оно, мое государство, — сам опять улыбается, гордость в глазах, и с лица не спадает этот радостный свет.
— Государство — это мы, любит повторять моя Нина Павловна, — и вижу, как хорошо ему, как горд за жену. Как у них, наверно, дружно в семье.
— Хорошо жить! И жить надо долго. Для людей, для работы... Но все бывает, конечно. Бывает. Прижмет так, что и свет не мил. Впереди — стена, и по бокам — стена. Тут и смерти бы рад.
Он побледнел, что-то вспомнил. Я догадываюсь, но не расспрашиваю. Но он сам начал.
— Лежу тогда в больнице и думаю: то ли в детдом их то ли самому... А душа болит, ноет, тело болит... Две войны прошел, весь израненный, раны ожили. В палату ко мне допускали, конечно. Придут люди, каждый одно: давай поднимайся, Ананий. Ты сильно колхозу нужен. Комбайнеров-то нет, поднимайся...
Говорит он тихим, неторопливым голосом, на меня не смотрит — будто для себя говорит.
— А народ все идет ко мне. Утешают. Не умрешь, говорят, ни за что не умрешь. Мы тебя оттудова веревками вытянем, да женим еще, да это дело обмоем. А я отвечаю — где вы таки веревки возьмете? Тут уж любы порвутся. А сам смерть молю...
Он прервался. В соседней комнате заворочалась на кровати старая хозяйка, застонала во сне. В комнату вошли его дочери — Клава с Олей. Посмотрели на нас и сразу вышли, не стали мешать.
— А народ все идет ко мне, посещает. Свои все, прорывински. Однажды приходят — мы тебе невесту нашли, мать для сирот. А я что — насмешки думаю, хохочут над полумертвым. Но нет, они снова. Нину знаешь, комбайнерку? А я в ответ — она не безумна, на таку ораву идти. Да и молодая, а я...
Он опять замолчал. Тяжело, конечно, легко понять. Такой страшный час. Как вынести, пережить...
— Народ опять успокаиват: «Ты лежи, лежи, поправляйся, а мы это дело начнем». И начали, довели до конца... Не могу, вам сама Нина доскажет. Как меня встретила, как детей приручила, как с ней на одном комбайне работали. Я — за гуж, а она — за другой. Вот и вышло — Иван да Марья... Поезжайте теперь в санаторий. Пока светло, солнечно... Там и увидитесь.