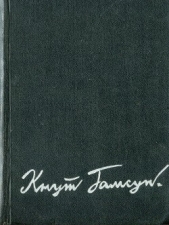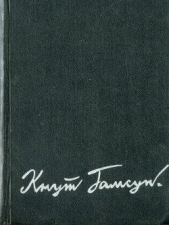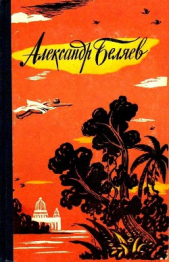Избранные произведения в трех томах. Том 3

Избранные произведения в трех томах. Том 3 читать книгу онлайн
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
— Полвека, Константин Романович, — вздохнув, ответил Томашук. — Пятьдесят два года. Уставать стал, нет того огня, что был когда–то.
Они еще долго сидели в креслах, коротая вдвоем дождливый вечер.
— Итак, ждите, — сказал на прощанье Орлеанцев. — И не уподобляйтесь недальновидному дяде, который не умеет дружить с печатью. Проявляя высокомерие по отношению к работнику печати, он расписывается в своей глупости, в том, что он индюк — и больше ничего, и остается, в общем, в дураках.
Через два дня корреспондент областной газеты пришел в театр. Томашук долго и подробно рассказывал ему о театральных делах, о том, что в театре еще не преодолены тяжкие последствия культа личности, что здесь еще тянутся к лакировочным, бесконфликтным пьесам, отвергают остро критические, актуальные, в итоге не выполняют свой долг перед народом, перед партией. Непомерную власть в театре захватил директор, дело которого — хозяйство, финансы, а не репертуарная политика. Что он понимает в искусстве, если еще несколько лет назад трубил на трубе в заводском оркестре?
Корреспондент слушал, записывал в блокнот.
— Да, да, — говорил он по временам. — Мне примерно так охарактеризовал вашу обстановку и Константин Романович. Вы его хорошо знаете?
— Мы друзья, — ответил Томашук. — То, что он инженер, а я театральный работник, это нас не разделяет. Человеку нельзя замыкаться в рамки только одной своей профессии. Неизбежно захиреешь, не правда ли?
— Конечно. Это очень правильно, то, что вы говорите. И поэтому знаете, какая мысль у меня возникает? Не я должен писать статью, а вы, Юрий Федорович. Именно вы. Сейчас мы даем серию статей, знаете, таких статей–раздумий людей самых различных профессий. Раздумий перед праздником, перед Октябрем.
— Что вы! Не умею я писать! — воскликнул Томашук. — Казенную докладную получите от меня, а не раздумья.
— Пусть это вас не очень беспокоит. Главную тяжесть, если хотите, приму на себя. Я ведь записал все ваши мысли, я их только сведу воедино. Так сказать, объединю, оформлю. А вы потом просмотрите. Что захотите, то исправите…
— Не знаю… — Томашук колебался.
Но корреспондент был настойчив. В конце концов он ушел, чтобы через три дня прийти с проектом статьи Томашука.
Поскольку через три дня было воскресенье, то, помня советы Орлеанцева, Томашук пригласил корреспондента к себе домой.
— Приходите часика в два, поработаем, а там, глядишь, и обед будет готов.
Не без удовольствия вспомнив делового, пунктуального Орлеанцева, Томашук отправился взглянуть, как там репетируют пьесу Алексахина. «Ладно, ладно, — думал он, — получите вы подарочек к празднику. В другой раз не будете так легко отмахиваться от людей». Он уже и о худруке думал неважно; надо будет и его в статью вставить как человека, не умеющего занять определенную, твердую позицию, как человека, который готов всю жизнь сидеть между стульями — чтобы и не на одном и не на другом. «Бесхребетное существо. Амеба».
Увидав Томашука в репетиционной, Гуляев тотчас прервал какой–то монолог, сказал:
— Я подожду, когда товарищ Томашук выйдет. Он заблудился, очевидно.
— Не надо острот, Александр Львович, — ответил Томашук, усаживаясь на стуле.
— Какие могут быть остроты! Вы же сами заявили, что в постановке этой пьесы вы нам не товарищ. Были сказаны такие слова или не были сказаны?
— Были, но это не имеет значения. Я не ставить что–либо пришел сюда. Как режиссер театра я имею право знакомиться с работой каждого из своих товарищей.
Гуляева окружили актеры, что–то шептали ему в уши, он махнул рукой. Репетиция продолжалась. Томашук злился. Он слушал меткие, хорошим языком написанные реплики, он видел, с каким увлечением работали актеры. Он прекрасно понимал, что спектакль получится и что это будет хороший спектакль. И чем яснее он это сознавал, тем отвратительней становились ему и этот Гуляев, и директор, и худрук — эта тряпка, не сумевшая удержаться на правильных позициях, и все актеры, так легко отвернувшиеся от него, Томашука.
Покинув репетиционную, в одном из коридоров он столкнулся с Козаковым. Не один раз знакомили его с этим художником. Но каждый раз художник позабывал своего нового знакомого. Даже и то, что однажды встретились за столом, на вечеринке, устроенной Орлеанцевым, не помогло.
— Товарищ Козаков, — сказал Томашук. — Разве это можно? Нас знакомят, а вы не хотите признавать знакомств.
— Простите, если так, — ответил Козаков рассеянно. — Знаете, думаешь всегда о чем–нибудь. Век такой сложный, голова вечно занята…
— Неприятности поди, да?
— Есть и неприятности.
— Ха–ха! — засмеялся Томашук. — А наш общий знакомый Константин Романович утверждает, что неприятности — удел провинциалов. Не становитесь ли вы провинциалом, товарищ художник? Но это шутка, шутка, не сердитесь. Скажите лучше, зачем пожаловали к нам в театр, чем можем служить?
— Да вот пригласили спектакль оформить. Присматриваюсь, обдумываю. Пьеса нравится, хорошая пьеса. Места есть сильные. Взволнует публику.
— Что за пьеса, простите? — Томашук чувствовал, что сейчас перестанет владеть собой, треснет кулаком в подбородок этого идиота Козакова, пойдет и начнет швыряться чернильницами и пресс–папье в директора, в худрука, которые с ним уже окончательно не считаются, не советуются. Оказывается, уже и художника пригласили, и все у них на ходу.
— Об Окуневых. Молодой драматург написал, — ответил Виталий, не замечая состояния Томашука.
— Вы, значит, так сказать, теперь специалист по производственным темам? — Томашук снова хохотнул.
— То есть как по производственным? — для Виталия высказывание Томашука было неожиданным.
— Ну, портрет сталевара, портрет рыбака… Прокатчик, блюминг этот нашумевший… Теперь тоже. Тут, насколько я знаю пьесу, доменные печи понадобятся, шихта и так далее. Увлекательно!
Томашук оставил озадаченного Козакова в коридоре, прошел в кабинет директора, к Якову Тимофеевичу.
— Может быть, мне пора заявление подавать? — спросил он, садясь.
— Какое заявление, о чем? — Яков Тимофеевич встал.
— Обыкновенное, Может быть, театр в моих услугах больше не нуждается?
— Видите ли, Юрий Федорович. — Яков Тимофеевич понял его. — Видите ли, — повторил он, — это уж как вам будет угодно. Если вы настолько расходитесь во взглядах и с партийной организацией и со всем коллективом, то ваше дело плохо. Но учтите — о заявлении не я вам сказал и никто иной. Это вы сами сказали. Вы, очевидно, хотите, чтобы вас упрашивали, чтобы умоляли: будьте любезны, Юрий Федорович, снизойдите до работы с нами. А я вас упрашивать не буду. Я здесь не хозяйчик, и вы здесь не работничек. Перед партией мы равны. И прошу мне мелодраматических сцен не устраивать. Не хотите работать — не надо. Обойдемся.
Томашук был огорошен словами Якова Тимофеевича, всем оборотом, какой приняло дело. Он не знал, что и сам Яков Тимофеевич огорошен своей речью. Якову Тимофеевичу всюду твердили: гибче, гибче, осторожнее со своими кадрами, они тонко организованы, они обидчивые, от обид вянут, уходят в себя, замыкаются. Он обещал: ладно, ладно, постарается быть гибче, осторожней, — и не выдержал, сорвался. Сейчас Томашук встанет, чтобы хлопнуть дверью. Через пятнадцать минут на столе у Якова Тимофеевича появится его заявление. А там и пойдет… Будет этот человек плести всюду, что его вынудили подать заявление, что директор сам орал: «Подавайте, не хотите работать — не надо, упрашивать не будем, обойдемся!»
Томашук действительно встал и, не говоря ни слова, вышел. Но он не вернулся ни через час, ни через два, и никакого его заявления на столе Якова Тимофеевича не появилось.
В тот вечер Томашук снова консультировался с Орлеанцевым.
— Вы совершили грубейшую ошибку, — укорял его Орлеанцев. — Что это за истерика: «Уйду! Подам заявление!» Да этому Ершову только того и надо. Немедленно на уголке вашего, так сказать, рапорта будет начертано: «Согласен. Произвести расчет. Ершов». Вы облегчаете ему задачу, вы покорно кладете свою голову в пасть противника. Не напрасно наши классики издевались над хлипкостью российской интеллигенции. Слабы нервишки у вас, слабы, Юрий Федорович.