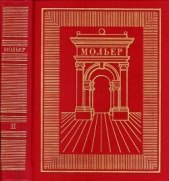Собрание сочинений в трех томах. Том 2.

Собрание сочинений в трех томах. Том 2. читать книгу онлайн
Во второй том Собрания сочинений лауреата Государственной премии СССР Г. Н. Троепольского вошли роман «Чернозем», рассказ и очерки. Издание сопровождено примечаниями И. Дедкова.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
То Матвей Степаныч Сорокин так нелестно обращался к односельчанам со своим особым методом «агитации». Иван Федорович Крючков поднял его, потом Федора с Мишей и Андрея Михайловича барабанным стуком в переплет рамы, в оба кулака. Он собрал их всех на ходу. Он не объяснял, а приказывал:
— Каждому по одной улице! Режут скот! Загонять «двадцатидворки» в одну хату, прекратить убой силой! Где надо — пугать оружием. Я отвечаю. — И он почти выкрикнул: — Прошляпили мы!
Они разбежались по селу. Вызывали в одну хату всех из участка «двадцатидворки» (все село было разбито на такие участки на случай пожара). Там, в хате, каждый из коммунистов действовал по-разному и на свой риск и совесть. Дороги были минуты! Сначала посылали вестового (любого из участка) собирать всех немедленно в одно место заранее и ждать: «Будет важное». Крючков входил, снимал шапку, становился у стола, обводил всех взглядом и коротко говорил:
— За убой скота — тюрьма!.. Расходитесь. В воскресенье — собрание, — и уходил первым.
А что можно было сделать, если за две-три минуты можно убить корову? Было ли время для агитации!
Андрей Михайлович прямо от дверей, не выпуская дверной ручки из руки, бросал в хату собравшимся:
— Если кто будет резать скотину — спущу шкуру! Опозорю — потомки помнить будут. Поняли?.. В воскресенье — собрание.
Федор садился за стол, доставал общую тетрадь и спрашивал, будто собираясь записать:
— Та-ак. Кто скотину зарезал?
Все молчали.
— Таких нет? Нет. — Хотя он и знал — есть. — Если завтра обнаружим мясо — суд! Все. — И спешил в следующую «двадцатидворку», где его уже ожидали.
Миша, оставшись один на один с самим собой, не знал, как и что будет говорить. Но вот он вошел, глянул на суровые и испуганные глаза, понял смятение и тоску и сказал просто:
— Неужели из-за каких-то овец кто-либо из вас захочет стоять перед судом?
Никто не отвечал. Он завязывал беседу и тратил минут пятнадцать — двадцать — иначе не мог. И не понимал своей ошибки.
Матвей Степаныч Сорокин действовал совсем по-другому. Он сразу подумал: «Чего я буду агитировать? Я ж на это неспособен». Потом по-стариковски затрусил вдоль дворов по отведенному ему участку и кричал пронзительно, непохоже на него:
— Расстре-ел! За убой скота расстре-ел!
Так протрусил взад-вперед, а потом взял под наблюдение «опасные», по его мнению, дворы и, зная, что никто в эти часы не спит, тихо подходил к окну такого «опасного» и неожиданно кричал как на беду:
— Чего не спишь?! Скотину собрался резать, охальный ты человек?!
Как дух божий, он витал над дворами «опасных» и неустойчивых, оберегая от рискованного поступка.
Как бы там ни было, но большинство скота спасли. Лишь много дней спустя установили, что меньше всех зарезано на участке Матвея Степаныча, а больше всех — на участке Миши. Но к Виктору никто не заглянул — у него было тихо: когда коммунисты поднялись на аврал, он все уже окончил — с него ведь с первого и началось.
Та ночь надолго запомнится всем жителям Паховки, и будут о ней передаваться страшные рассказы из поколения в поколение о том, как люди сбились с пути и как их насильно, за шиворот, оттаскивали от края пропасти, над которой они стояли в неведении и сомнении. И бабы будут пересказывать в сотый раз, как овца сошла с ума, глядя на кровавую оргию, и бросилась на хозяина собакой. Может быть, трудно будет разобраться, где правда в этих преданиях, а где выдумка. Поэтому нельзя об этом не написать. Невозможно. Все это было.
…Светало. Земля была покрыта нежным, как пух, снегом. Иван Федорович первым увидел на площади труп красивой, серой в яблоках, лошади. Она еще не замерзла. Она лежала, растопырив ноги, лежала с открытыми глазами, подернутыми мутью. Красавица была не из Паховки: кто-то привел ее из чужого села и убил, чтобы труп видом своим разрывал мужика на части. Злодей знал душу крестьянина, знал, что убитая лошадь — страдание и тоска до боли; знал он, что мясо лошади не едят не потому, что оно невкусно, а потому, что грех, великий грех есть мясо вечной кормилицы, безропотной и преданной до последнего вздоха. Крючков постоял около и подумал: «Где-то я просмотрел. Что-то упустил. Этак недолго и озлобить крестьянина».
Подошли Андрей Михайлович и Федор (они от сельсовета увидели всю картину). Крючков сказал:
— Кто-то «работает». Надо заявить в милицию.
Андрей Михайлович молча обошел лошадь вокруг, еще больше помрачнев. Федор только спросил:
— Когда соберемся?
— Вечером, — ответил Крючков. — Втроем.
— Где?
— Только не в сельсовете, — ответил Ваня.
— У меня, — предложил Андрей Михайлович. — Надо положить конец всему этому, — он указал на мертвую лошадь и, резко повернувшись, решительным шагом направился к сельсовету.
В ту же беспокойную ночь Кочетов Василий Петрович, захлопнув перед носом Сычева дверь, стал посреди хаты, задумавшись и расставив ноги широко, прочно. В избе было темно, и, казалось, все спали. Теленок в углу посапывал, вздыхая во сне. Но Володя не спал: он все слышал и наблюдал за отцом. Он еще ни одного слова не сказал ему о происшедшем на собрании партячейки. «Зачем раздражать и волновать, — думал он, — если все обошлось хорошо». Но у него не выходил из головы один вопрос: «Кто же написал анонимку? Никому никогда отец не сделал вреда, ни с кем не был во вражде. Кто же?» Володя слышал, как отец тихо порылся за припечкой и достал нож, которым при надобности кололи скотину; потом с этим ножом в руке бесшумно сел у стола и не шевелился. Сын не мешал, притворился спящим.
Тяжелые думы одолевали Василия Петровича. Вот, как на ладони, лежит вся его жизнь. Не помнить ее невозможно: вся она прошла в этой хате, в этом дворе, только с разными лошадьми. Лошади иногда падали, он каждый раз выбивался из нужды и покупал новую. Все хозяйственные вещи, столбы, подсохи и плетни сделаны им самим, только его собственными руками, без какой-либо помощи со стороны, в одиночку. И вот теперь, при Советской власти, он нажил хорошую лошадь, отличную корову-ведерницу, восемь штук овец, тридцать кур; хлеба в этом году хватит-перехватит до нового, с остатком. Вырос сын-помощник, дочь на выданье подошла — жить бы Да жить теперь. «Но лучше ли будет жить в одиночку? — думал он. — Таким, как Сычев, не станешь, да и богаче, чем сейчас, тоже не будешь, а хуже — может быть. Скажем, пала лошадь — что делать? Сразу три года подряд недоедать, копить, мучить себя лишней работой. Если же в колхозе падет лошадь — не страшно». Но медленно, исподтишка подкрадывалась новая думка. «А земля? Чья она будет? Кому хлеб достанется?.. Один — работать, а хлеб есть — десяток: один с сошкой, а семеро с ложкой. А на своей полосе я — хозяин: я и завхоз, я и счетовод, я и председатель, я и судья сам себе». Вдруг ясно и просто пришло в голову: «А все-таки нужды в моей жизни было больше, чем достатка, — о чем речь! Хуже не будет, а такую жизнь можно добыть где угодно». Эта мысль держалась долго, не уступая места другим до тех пор, пока не вспомнил анекдот о богомазе:
«— Что это ты за чучело нарисовал в углу? — спросил богомаз у мальчика.
— Икона, — ответил мальчик.
— Да то ж не икона, а урода! Лучше купить хорошенькую.
— Хоть и кривенькая божья матушка, зато своя, — сказал мальчик».
«Вот видишь, — думал Василий Петрович, — даже дети знают: „мой“, „моя“, „свой“, „своя“, а я хочу скотину со двора сводить в колхоз».
Володя услышал, как отец вышел во двор, ступая тяжело и неуверенно. Он тоже соскочил с печи, сунул ноги в валенки, накинув шубу, вышел незаметно в сени и прислонился к косяку двери. Отец вошел к лошади в конюшню. Битюжанка всхрапывала и перебирала ногами, повернув голову к хозяину, — она волновалась и вздрагивала, слыша рев скотины и почуяв запах крови со двора Виктора Шмоткова. Жуть всему живому! Василий Петрович положил лошади на холку тяжелую руку.
— Ну, Краля, весной с жеребенком будем? — спросил он ласково. — То-то вот и оно, что — с жеребенком. Чужую землю будешь пахать. Да… Оно, может, и не так, ну жалко тебя, Кралька. — Он обходил вокруг лошади, гладил ее и говорил: — Нет, убивать тебя не буду — не дурак… А может, Кралька, в колхоз пойдем? А? Сам же на тебе и пахать буду. Да только вот боязно как-то — ну-ка да обманут. То-то вот и оно, что боязно.