Касьян остудный
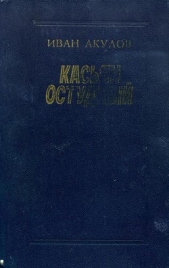
Касьян остудный читать книгу онлайн
Первая часть романа Ивана Акулова «Касьян остудный» вышла в издательстве в 1978 году.
В настоящем дополненном издании нашли завершение судьбы героев романа, посвященного жизни сибирской деревни в пору ее крутого перелома на путях социалистического развития.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Мошкин сел на диванчик, плюнул на ладонь и приказал хохолок волос на макушке.
— Считаю, милиционера Ягодина неспроста вызвали в округ, — сказал Жигальников. — Он непременно привезет то, чего я жду.
— Думаете, отзовут вас?
— Думаю. Но не это главное. Главное — таких, как мы с вами, остепенят. Одернут. А то мы рьяно делаем план, и мужикам, уверяю вас, нечем будет засевать поля. Сверху сказали подоить крупных зажимщиков хлеба, а мы с вами берем всех без разбору. И этим наносим огромный ущерб Советской власти, задевая интересы не только середняка, но и пролетарской части села.
— Но план же, товарищ Жигальников. Вот он, — Мошкин выдернул из кармана перегнутую и затертую тетрадь, лизнул пальцы и стал перекидывать мятые страницы.
— Я вас, товарищ Мошкин, к жизни хочу повернуть, а вы все ныряете в свою тетрадь.
— Но — мы еще не тронули середняков, товарищ Жигальников. Что это вы все наговариваете?
— В списке, который вы дали председателю, значатся только середняки.
— Но что же делать, товарищ Жигальников? — Мошкин похлопал себя по вспотевшему лбу и ладонь тут же вытер о штаны на узком колене. — Нам даны полномочия. Нас предупредили, что дело пойдет трудно. Нет, не думаю, чтоб Ягодин привез послабление. Плана не дадим — по головке не погладят. Об этом меня тоже предупредили.
— И все-таки до Ягодина с вызовами погодить бы.
— Не время. Сроки кончаются, а дело ни с места. — Мошкин озабоченно встал и пошевелил лопатками, к которым вдруг прилипла взмокшая рубаха. — Ну хорошо, пусть будет по-вашему. Скажу, чтоб повременил с вызовами. Но гляди, Жигальников, по твоему настоянию останавливаю кампанию. Вовсе не верю, чтоб в таком исстари богатом селе не было хлеба. Водят нас кулаки за нос. Лукавят, мошенники. Как там у товарища поэта Маяковского? Умеет сказануть. За рекой деревенька. Бороды веником. И каждый хитр. Именно хитр. Сам себе на уме, понимай. Землю попашет, стихи попишет. Бездельники. Ни единому слову не верю. Двоедушный он мужик — был и будет.
Мошкин расстегнул пиджак и полами его обмахнул себе разгоряченную грудь. На другую половину дома, где сидела Валентина Строкова, пошел с неохотой. Дверь в комнату секретарши оказалась отворена, в комнате никого не было. Мошкин оглядел пустой стол и вдруг в окно, выходившее на дорогу, увидел толпу народа. Подошел ближе и из-за косяка стал глядеть на улицу.
Впереди всех, в высоких сапогах и без шапки вел под уздцы белого жеребца Харитон. Конь был накрыт черной попоной и тянул легкие санки — в них, держась за высокую резную головку, стоял плешивый сморщенный попик, сугорбый, весь спрятанный в потускневшую ризу. Попик немного наклонился на сторону и с навычной важностью махал сбоку санок. Когда кадило взлетало кверху, из него выпархивали клубочки бледновато-сизого дыма. По канону священник должен идти вместе со всеми пешком, но этот попик с желтой лысой головкой и обредевшей бородкой не в силах был шагать по грязной дороге, и его поставили в санки. За ним два старика несли пихтовый венок, на котором лежал японский картуз с высоким красным каркасом. Картуз этот Федот Федотыч принес с русско-японской войны и хранил как память о тяжком сражении под Ляояном. Затем шли двое, накрытые крышкой гроба, а следом шестеро мужиков несли гроб на белых скрученных полотенцах. За гробом рассыпалась толпа: все больше бабы и черные старухи с короткими посошками, из-за которых им, казалось, приходится низко сгибаться и неловко идти, уткнувшись в землю. Куцая процессия понуро шла мимо сельского Совета. Зато, ребятишки, умеющие выражать взрослых, пытливо искали за пустыми стеклами хоть малейшее проявление спрятавшейся там жизни, которая — верно знали они — тоже наблюдает и за дряхлым попиком, привезенным из Кумарьи, и за японским уродливым картузом, и за гробом, убранным пихтой, зеленым мхом и восковыми цветами. В жадных глазах мальчишек горело не детское любопытство, а затаенная отчужденность и выжидание.
«Скорбь на себя напустили, будто им в самом деле жаль его, а живому небось только и мыли кости», — не понимая толпы, злобился Мошкин, находя в подавленном взоре людей молчаливый, но враждебный вызов, на который не терпелось ему ответить. Напоследок шли хилые, отставшие старухи, бабы с младенцами на руках — на них нечего было глядеть. Вышел в коридорчик и рявкнул:
— Умнов!
Яков Назарыч вернулся из сенок, где наблюдал за процессией через маленькое пыльное оконце, залитое дегтем и в паутине с дохлыми мухами.
— Послал со списком?
— Сразу же.
— Ну раз послал — будем ждать.
Когда вошли в кабинет председателя, Жигальников лежал на диванчике, заметнув ноги на подоконник. В зубах держал папиросу и жевал ее, подмочив слюной табак.
— Я, кажется, товарищ Мошкин, нашел ответ на ваш вопрос, — сказал он, тряхнув газетой. — Вот. Весьма рекомендую.
Мошкин взял газету из рук Жигальникова и стал читать указанную статью, не садясь на место. Жигальников обсыпал пеплом серенький галстук и, отряхнув его, пригляделся к председателю:
— Что не весел, Яков Назарыч?
Умнов подсел на диванчик в ноги Жигальникову и, рассчитывая, видимо, на его понимание, открылся враз:
— Какой я теперь председатель — баба меня исхлестала. Батрачка. Вот я и вырешил: Егор Бедулев всяко способней. Пробивной. Одно слово, — вырешил я.
— Ну-ко, ну-ко, что ты вырешил? — подхватил Мошкин, становясь против Умнова.
— Бедулев пусть походит в председателях.
— А ты?
— Я что ж… мой авторитет потерянный.
— План по хлебу дашь — авторитет верну тебе.
— Авторитет, Борис Юрьевич, не зарплата, в кассе его не получишь. В город надо наведаться. — Умнов похлопал себя по карманам, совсем решил признаться, что потерял свой наган, но что-то удержало его на последнем слове и заулыбался нелепой улыбкой.
— Я замечаю, председатель, — оглядывая лицо Умнова, сказал Мошкин, — всеми своими фибрами — ведь ты потерял что-то, а?
— Вся жизнь из потерь, — нашелся Умнов и, осилив накатившую на него слабость, взял себя в руки, спокойно и привычно ощупывая усы.
Мошкин знал об этой привычке председателя, считал ее дурной, свойственной недалекому человеку, и брезгливо усмехнулся, с облегчением подумал о том, что у такого человека, как Умнов, не может быть ни крупных дел, ни больших поступков, ни тем более значительных потерь.
Яков Назарыч все последнее время не мог спокойно ни жить, ни работать, ни думать — его угнетало сознание близкой и неминуемой кары, и утаивать свою потерю больше не хватало сил. Он каждый вечер засыпал с твердым намерением завтра же пойти с повинной и разом облегчить утомленную ожиданием душу, но утром, с приходом дневных забот, вина не казалась ему такой тяжкой, возникала надежда, что когда под крутояром сойдет снег, наган объявится. Снегу становилось все меньше, а там, где скатывались на санях, дорога протаяла почти до земли. Яков Назарыч не раз прошелся по этой дороге, на которой дерзко держались озимая травка, а в западях копилось раннее тепло. В отаве он выглядел пимную заплату, черную пуговицу, осколок зеркала, сломанную гребенку, а нагана не было. С утра Яков Назарыч чего-то выжидал, бывало, даже храбрился, но к вечеру неизменно впадал в уныние и сникал. «Надо кончить с этим. Разом, как присохший к ране бинт, — раз, и никакой боли…» Но чтобы он ни делал, о чем бы ни говорил с людьми, все время чувствовал все более овладевшую им робость. И чем дальше откладывал развязку, тем заметнее угасала в нем воля. Ему хотелось перед кем-то открыться, и вот вдруг показалось, что такой миг пришел и следователь Жигальников, настроенный против Мошкина, поймет и поддержит его, Умнова. Однако в самый последний момент споткнулся, не сразу оправился от испуга и жестко подумал: «На черта я им нужен, мужик сиволапый. Не будет у них понятия ко мне. С хлебом у нас идет туго, — вытолкнут меня, заслонятся мною. Не буду признаваться. Уж припрут к стенке, тогда… Вперед смерти я умер».
Пока шли похороны да поминки, из вызванных в Совет никто не явился. Зато вернулся из Ирбита милиционер Ягодин. Он приехал на попутной с братанами Окладниковыми и рассказал, что они, братаны, увезли на ссыпку хлеб и в городе продали своих лошадей вместе с упряжью и санями. Себе оставили только жеребую кобылу, на которой и пилили из города от темна до темна.























