Касьян остудный
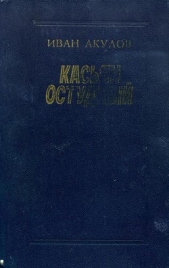
Касьян остудный читать книгу онлайн
Первая часть романа Ивана Акулова «Касьян остудный» вышла в издательстве в 1978 году.
В настоящем дополненном издании нашли завершение судьбы героев романа, посвященного жизни сибирской деревни в пору ее крутого перелома на путях социалистического развития.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Машка впервые видела Аркадия таким оробевшим и вдруг смело улыбнулась ему преданными глазами:
— Не вози, Арканя. Они не тронут тебя. Не посмеют. А придут, я у ворот, вот здесь, Арканя, встану с вилами. Пусть хоть один сунется.
— Да у тебя станется. Чтобы околеть, ткнешь. А?
— Ты скажи, Арканя, — глазом не моргну. Одно твое слово. Я через тебя силу в себе учуяла.
— Молчунья ты — черт тебя раскусит. Ну, ступай, я зайду в избу, возьму спички.
Аркадий подтолкнул легонько ее в ворота, и она пошла через двор к проходу между завозней и конюшнями, чтобы выйти в огород к бане.
В это же время на сельсоветское крыльцо вышли Яков Назарыч Умнов и милиционер Ягодин. Оба легко вздохнули и улыбнулись друг другу, что у них свободный вечер и проведут они его вне общества Мошкина, который надоел им хуже горькой редьки.
— Спектакль сегодня ребята ставят в народном доме. Сходим? — спросил Умнов.
— Вряд ли. Я вот что-то никак не согреюсь. Пойду полечусь. Слушай-ка, Яков Назарыч. Я не стал при Мошкине говорить, думаю, опять привяжется, разведет канитель. Такое вот дело. Братаны Окладниковы — я ведь с ними ехал сюда — признались мне в одном деле. Вернее сказать, пожаловались. Помнишь, когда мы налегли на Кадушкина, Окладниковы, чуя свой час, в яму за своим огородом захоронили сколько-то мешков ржи. Не знаю уж, сколько. Да вот дальше-то слушай. Потом, значит, когда их взяли за живое-то местечко, делать им нечего, они к яме — раскапывать…
— И хорошо, — поддакнул Умнов. — Без скандала, стало быть, так оно и было.
— Все так, Яков Назарыч, да только когда разрыли яму-то — восьми мешков недосчитались. Кто-то побывал до них…
Умнов расхохотался:
— Вор у вора дубинку украл. Ну, и на кого они думают?
— Вор один, а думай на всех. Или, как говорят, у вора один грех, а у потерпевшего в десяток не уложишь.
— Доброго слова не понимают, так худым делом научат. Что же они теперь хотят?
— Да ведь дело прошлое. Сейчас ничем не пособишь. Я это тебе для заметки. Вот и такие есть, оказывается.
— Всякие есть, товарищ Ягодин. Спасибо за сообщение. Ну, давай лечись. Самогонки с чесноком вдарь. Будь здоров.
— До завтра.
И они разошлись.
Повивальная бабка из города приняла у Дуняши роды и на третий день, сказавшись нездоровой, заторопилась уезжать. Дело в том, что Дуняше было плохо: у ней не спадал жар, не было молока, и бабка, не желая быть сиделкой у больной, да и ждали ее другие роды, не нашла ничего лучшего как собраться домой. Правда, она оставила Любаве множество советов, но все равно Кадушкины не могли обойтись без помощи повитухи.
Утром Харитон увез бабку в Ирбит, и Любава сходила за Кирилихой, которая никому в своей помощи не отказывала.
Придя к Кадушкиным, она минуты не опнулась на одном месте и своей уверенной непоседливостью вселяла надежду на выздоровление и у Дуняши, и у Любавы. При ней весь дом пошел ходуном: топилась печь, заваривали отруби, мочили простыни, настаивали отвары, готовили бутылки с горячей водой. Уж затемно Кирилихе понадобился лист чернобыльника, которого она не взяла с собой.
— Его и завтра бы можно запарить, да лучшай с вечера. Вот тебе, девка-матушка, край, бежать к нам. На полке над окнами в синем мешочке. В других-то мешочках там всякий разный сбор, а в синем мешочке как раз лист. Полынкой пахнет. Да полынка и есть. Матушка моя все: чернобыльник да чернобыльник. И я теперь по-еенному.
И Любава пошла. Увидев свет в умновской избе, Любава неожиданно вдруг подумала, что ей придется встретиться с Яковом, и решила вернуться. «Скажу, заперто, — придумала и отговорку, а сама между тем вошла во двор и вдруг осудила себя: — Что это я, вовсе беспутная — ведь ради Дуняши иду. А на Якова, да мне наплевать на него. Проклясть его — с батей-то что сделали. А я в такое горькое времечко о чем-то своем. И всегда у меня так». От этой мысли Любаве даже перед собою сделалось неловко, и потому жестко сложила губы, платок по-старушечьи надвинула на брови. В дверях под ноги ей из избы бросилась кошка: за нею с ремнем Яков. У порога было темновато, да и, считая, что вошла мать, Яков, не глядя, закричал:
— Выпустила холеру. Ну, пакость.
— Добрый вечер.
— Любава. Вот встретил. С ремнем.
— Тебе не привыкать. — Хотела серьезно и сурово сказать, а вышло мягко, с оттенком иронии.
— Проходи. Садись. — Застегивая ремень и бренча пряжкой, чувствуя, как краснеет, Яков отвернулся, заговорил, чтобы собраться с мыслями: — Голубя ребятишки подшибли, а я его взял в избу. Пропадет, думаю. Она, скажи, из сенок, зверюга, учуяла. Обревелась под дверьми. А я уж и забыл да впустил. И как успела. Едва отбил.
— Все пустяками занимаешься.
— Всякому свое. Да ты садись. Мать-то у меня куда задевали?
— Мать не по сыну, без дела сидеть не будет. Небось не она, так околел бы с голоду.
Оттого что Любава сердилась и хотела ужалить каждым словом, у Якова теплело на душе: он слышал в ее упреках не только злость, но и скрываемое ею, обидное для нее ревнивое участие. Он понимал, что девушка не вольна перед ним, но знал и то, что у него не найдется нужных слов, которые передали бы его виноватость и его душу, которые доверчиво сблизили бы их. Как объяснить ей, почему он живет в бедности? Как оправдаться, почему он пришел брать у них хлеб? Как рассказать, что он решил жить и работать по-иному? Как открыться ей, что он еще тогда, когда жил у них в работниках, люто ненавидел ее за недоступную строгость, и чем больше ненавидел, тем мучительней любил и оттого на ее глазах стремился делать то, что ей не нравилось?
Лихорадочно перебирая свои мысли, он не спуская с нее глаз, а сам отрешенно убирал с середины избы бочонок, на который набивал новый обруч, вывернул огонь в лампе, смел крошки со стола прямо на пол. А Любава подошла к полке и, откинув ситцевую прогоревшую занавеску, увидела там кучу мешочков, больших и поменьше, и совсем маленьких — многие были сшиты из подсиненного холста. В каком из них чернобыльник?
— Мать послала? — обрадовался Яков легкому разговору. — Она чего просит? Может, не здесь? Там, на кухне, еще склад.
Любава сняла и принюхалась к трем или четырем мешочкам, и Яков почему-то определил, что она ищет чернобыльник.
— Вот он, красным шнурком перевязан. О шнурке-то, должно, забыла сказать, старая. Тут академия, враз не разберешься. — Яков опять засмеялся и сунулся помогать Любаве, к самым рукам ее подвинул лампу. Дышал рядом горячо и рывками. Она знала причину его судорожной веселости и не могла ее простить ему. Так и кипело на душе злое, мстительное, но что-то мешало высказаться до конца. «Много чести будет, чтобы я говорила с ним», — подумала Любава, оправдывая себя, и осуждающе поглядела на Якова своими большими круглыми глазами. Как и тогда у ворот, она увидела только его подбородок да крепкую загорелую шею в расстегнутом вороте гимнастерки с белым подшитым подворотничком.
Любава развязала красный шнурок и, взяв горсть сушеных листьев, понюхала: на строгом лице ее появилась кроткая улыбка. Яков повеселел:
— Не стыдно в знахарство-то верить?
— А ты главная власть у нас, что же фельдшера не выхлопочешь? Знаете шманать по чужим амбарам. Ведь это только подумать, на что решились.
— Фельдшера-то на земле не валяются. Их выучить надо. А на учебу хлеб требуется. Все, Любава, в узелок затянуто. Нам не развязать.
— А тут человек умирает. Пусть умрет, что ли?
— Не о том мы говорим, Любава.
Любава отсыпала в принесенный с собой стакан сушеной травы, мешочек поставила на место. Яков сознавал, что она уйдет сейчас, и, заступив ей дорогу, совсем унизился:
— Ты вспоминай меня, Любава. Хоть я, по-твоему, и лентяй и амбарник, да потом, Любава, как скажешь, так и жить буду.
— А куда это ты собрался?
— Уж так вот выходит, — Яков замялся, потупился, но тут же поднял глаза на Любаву и признался: — Наган я, к лешему, потерял. В масленку еще. Теперь вот дальняя дорога и казенный дом.























