Касьян остудный
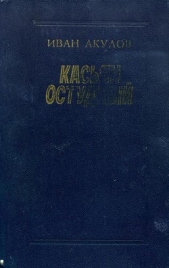
Касьян остудный читать книгу онлайн
Первая часть романа Ивана Акулова «Касьян остудный» вышла в издательстве в 1978 году.
В настоящем дополненном издании нашли завершение судьбы героев романа, посвященного жизни сибирской деревни в пору ее крутого перелома на путях социалистического развития.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
— Я вот сегодня еще утром спорил с Мошкиным. А теперь вижу, напрасно спорил. Во многом прав он, этот Мошкин. Горяч, но прав. Идет жестокая классовая борьба, и середины нету: не мы их, так они нас. Видел, как он его ловко приласкал к столбу. А ведь убеленный сединой, благообразный старец. Сама доброта вроде. Вот и говори после: своя деревня. Деревня-то, может, и своя, да мы-то по кулацким сусекам за хлебушком ходим. Понял? Председатель?
Но Умнов, остро наблюдавший за подходящими Харитоном и Аркадием, плохо понимал Жигальникова, а облегченно вздохнул и пришел в себя только тогда, когда увидел, что в руках у них ничего не было.
«Сердце-то, видать, заячье, хоть и вырядился в боевую кожанку, — раздражаясь, подумал Жигальников об Умнове и уж совсем злобно переключился на себя: — Не надо было мне приезжать сюда. Ни мужика, ни деревни не знаю и потому не умею с точностью сказать, как обернется дело. Ведь это тоже не дело, что мы вломились в чужой двор…»
— Председатель, — вдруг обратился Жигальников к Умнову, — продолжайте работу, а то гляжу, вы готовы дать стрекача.
Аркадий остался на дороге, а Харитон пошел во двор, не глядя на чужие подводы, отворенные двери амбаров и людей, суетившихся у этих дверей.
— Стой, — окликнул его Жигальников и приказал: — Иди сюда. Кто ты такой?
— Это мне бы спросить, кто вы такие, да я с прошлого разу помню вас. — Харитон вытер о рогожу на мостках сапоги и стал подниматься на крыльцо, не желая ни видеть следователя, ни говорить с ним, будто боялся чего-то непредвиденного, что определенно помешает ему, Харитону, немедленно узнать о здоровье Дуни.
— Вернись! — закричал Жигальников. — Вернись, сказано.
Харитон остановился, а потом медленно пошел с крыльца, готовый всему покориться и заплакать или вырвать из саней оглоблю и окрестить ею всех до единого, что пришли незваными на его двор. Умнов, наблюдавший за Харитоном от ближних амбарных дверей, уловил в его фигуре что-то опасное и, скользнув к нему сзади, ловко заломил ему руки.
В этот миг — никто и не заметил — во двор влетела разгневанная Машка, позднее всех узнавшая сельские новости. Она в расстегнутой шубке и цветастом платке, сбившемся на плечи, подбежала к Умнову и со всего плеча хлестнула его по лицу.
— Отпусти, сказано. Что вы с ним делаете? Да как возьму вилы, так и проткну тебя скрозя, сапожное ты голенище. А вы-то что глядите: ведь договорились, не брать силой, — закричала она на Жигальникова, который совсем уж начал отступать за ворота.
У Якова Назарыча из разбитого носа текла кровь и черным поводком вилась по его кожанке. Он отпустил Харитона и, не думая, что тот может ударить его сзади, пошел к амбарной стене, зачерпнул ладошкой льдистого снега, прижал к носу. Харитон мертвенно побелел, с беспамятно выпученными глазами наверняка ударил бы Умнова по затылку, но Машка твердо заступила ему дорогу и слезливым криком остепенила его, стала подталкивать, как пьяного, по ступенькам в дом. И он послушался.
Яков Назарыч еще босоногим мальцом боронил озими и, заснув на половичке, заменявшем седло, свернулся с лошади. Упав, так неловко ударился носом о комковатую пашню, что потерял сознание и едва не изошел кровью: благо, что мимо умновской межи проезжал Влас Зимогор и подобрал мальчишку. С тех пор Яков Назарыч стал слаб носом и, умываясь, редкое утро не сморкается кровью. Машка ни бог весть как крепко задела Якова Назарыча, но он знал, что хлынувшую кровь ему не остановить до самого вечера.
Все это шумное, суетное утро со сборами и подступом к дому Кадушкина разгорячило Умнова, чем-то обнадежило и обрадовало; он даже слышал, как в его душе поднимаются и звучат добрые, спокойные слова и для Федота Федотыча, и особенно для Любавы, — Кадушкины — не глупые же они люди — должны понять, что пришел край старым порядкам и надо без ругани, криков, драки отворить все запоры и впредь во веки веков жить открыто, нараспашку — ты весь перед людьми и все люди для тебя. Не умевший жить впрок Яков Назарыч невольно старался приравнять Федота Федотыча к себе и верил, что уж не так велики хлебные кадушкинские запасы, чтобы биться за них смертным боем. Просит государство — отдать надо, а завтра будет день, будет пища. Однако у ворот Кадушкиных все произошло так стремительно и необъяснимо дико, что Яков Назарыч растерялся, а, проводив в контору чуть живого заготовителя Мошкина, бестолково совался по двору, не зная, что говорить и что делать. Но когда он увидел большие, потому особенно прекрасные глаза Любавы, неразделенно затаившие и покорство, и негодование, ему как-то неловко, но твердо подумалось, что в селе появится еще один выморочный дом. А тут еще полная несуразица с Харитоном, откуда-то прибежавшая Машка…
Яков Назарыч ушел к себе домой и лег на лавку, накрывшись сельсоветским тулупом. Рядом с собой поставил ведро со снегом, который горько пах холодным дымом и свежей тальниковой корой. Этим снегом он застудил все лицо, а кровь все не свертывалась и сочилась.
«К чему все это? Зачем? — спрашивал сам себя Яков Назарыч и чувствовал, что хмелеет не только от потери крови, но и от назойливых вопросов, на которые не находилось ответа и от которых нельзя было отвязаться. — В чем моя вина? И почему Мошкин только за крутые меры на хлебозаготовках? И Федот Кадушкин, дьявол, довел дело до потасовки. Он, сволочь, вина всему. Любаву и Харитошку начисто заездил. Без старика договорились бы с ними. Зачем это все? Зачем?..»
Чтобы отвлечься от неразрешимых мыслей, Яков вздыхал, делал вид, что засыпает, и тогда совсем живо представлялись ему большие, налитые праведным презрением глаза Любавы и едва не стонал. «Она-то при чем? И теперь уже ничего нельзя сделать, чтобы помочь им. Как помочь? Чем? Если бы знать… Если бы знать наперед. Бросить надо все, отойти в сторону, пока есть время, а то как возьмется Советская власть выправлять наши перекосы, по всем швам треснет твоя кожанка, Яков Назарыч. А и правда, взяться надо и показать трудом путь к новой жизни. Ведь до чего дошел: ни себе, ни матери ни обуть, ни надеть. У приезжего Жигальникова выканючил сапоги. Это как понять? Брошу все. Сниму к черту свою кожанку: болен, мол. Да ведь и в самом деле болен. А наган? Его же сразу, как и сельсоветскую печать, надо сдать. Пропал ты, Яшка. И так пропал и эдак пропал. Ни дна тебе, стервец, ни покрышки…»
Яков так разволновался, что у него жаром обнесло голову и к горлу подступила тошнота. «И ее где-то нету, — подумал о матери. — И все-таки брошу все…»
Во дворе хлопнули ворота, и кто-то, тяжело чавкая сырым снегом, прошел к крыльцу, уронил в сенках ведро и не поднял, потому что ведро перекатывалось и гремело на полу сенок, а дверь в избу уже скрипнула и отворилась. Вошел Егор Бедулев, в высоких сапогах и узком полупальто, с воротником из черного и уже вытертого плюша. Сам Егор разгорячен теплым весенним днем, всеобщим возбуждением на селе и ответственным делом, губы в тонком повое бородки свежо алеют.
Он прочно сел на скамейку у печи, чтобы видеть Якова, хлопнул себя по коленям. С сапог его на половики натекла вода. Он пошлепал по мокрому подметкой и, наперед зная, что обрадует хозяина, заговорил грубо, громко, весело:
— Смазала она тебе, лярва, по самой сопатке. Машка умыла тебя — утирайся. Ха-ха. Она опосля на товарища следователя Жигальникова, который, кинулась. Во — собака. Того вовсе испужала… Привез тебе два мешка пшеницы, белотурка. В крайнем сусеке Федот держал праздничную — небось на блины да заварны калачики берег. Помакал блинчиков в топленое маслице. Помакал. Хватит. Теперь давай на казенный харч. Говорено было, не все коту масленица. Потом заплатишь. Валька скажет, сколя.
Яков молчал, лежа с закрытыми глазами, и не выявил никакой радости, чем озадачил Егора Бедулева.
— Что ж, Яша, вроде покойник, который. А я грех на душу взял, подумал, от испугу ты устранился. На-ко вот — как она, лярва, шаркнула. А что ты хочешь — рука у ней чугунная, одни грудя, видел, под стать разве моей Фроське. Прямотка качаются. Мне ведь, Яша, недосуг вовсе. Двенадцать подвод нагрузили. Еще три будет. И мне велено сопровождать их. А больше ж некому. Я зашел-то что? Тулуп дай сельсоветский. Оно и тепло, тепло, да, гля, завернет на ночь глядючи.























