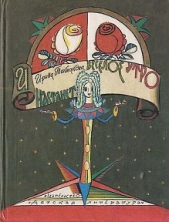Веселое горе — любовь.

Веселое горе — любовь. читать книгу онлайн
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
«Жена!».
Выходит, обручился Лебедь в чужом краю, да все равно вспомнил о родном доме и жену уговорил с ним лететь.
Захлопнул я дверку голубятни, всех голубей пособирал и в кухню отнес. «Посидите пока тут, ревнивцы несносные!».
Потом открыл дверку голубятни, и Лебедь живо залетел на полочку.
А я в окно гляжу, волнуюсь: слетит новенькая или нет?
Вот наконец осмелилась она и направилась за мужем вниз.
Только тут уж голубки шум подняли.
Взлетели Лебедь с женой на крышу, сели возле трубы рядышком и задумались.
А кругом вечерняя теплота, в голубятне малые детишки пищат, и жизнь идет своим чередом, как ей и положено.
Долго сидели Лебедь и Кралечка не двигаясь. Но вот голубь поднял голову, вытянул и сжал крылья, и мне показалось, будто Лебедя и его жену кинула в небо неведомая сила.
Ни одного круга не сделали они над домом, унеслись под облака.
Даже пера не оставил мне Лебедь на память, — ушел к новому месту, к новому дому, к новой семье.
Уплыли годы, как вешние воды, все стали старше — и люди, и голуби, и деревья, а я все не мог прогнать из памяти Орлика и никак не хотел верить, что позабыл он совсем свою родину, свой круг, свою молодость.
Ведь он же прилетал за сотни километров, по дождю и снегу, почему же теперь его нет, целых семь лет не возвращается он ко мне?
Где же ты, Орлик? Ведь исскучался я по тебе...
Нет, он вернулся бы, если б смог! Значит, не может, значит, долгие годы сидит он в резках, и кто-то бездушный, жестокий, холодный терпеливо держит его в плену.
А жизнь не может теплиться только памятью, да и память становится старше и теснее оттого, что пробиваются с ее донышка новые ростки жизни.
И вот эти росточки стали уже густой травой, и постепенно в этих зарослях потерялись очертания сильного и верного голубя Орлика.
«Верного ли?»
Над моей головой пронеслось уже много бурь, какие гремят над каждым человеком. Желтые пустыни Азии и слепящая белизна Арктики, прибрежная синева Крыма и Кавказа — все уже стало прошлым, а я еще помнил о птице, о маленькой птице, и грустил о ней.
Вот так, скучая, я сидел на балконе и глядел на птиц долгим пристальным взглядом.
На коньке красно-синий могучий почтарь ухаживал за желтой голубкой и пел ей, как умел, песню.
Нет, нет, это — не Паша, это даже не его сын! Это внук Паши, удивительно похожий на деда.
А вот голубка, — она совсем не сходна ни с кем из моих стариков, желто-рябая остроносая птица. Но все равно я знаю, что эта старушка вовсе не чужая мне, это дочь Шоколадки и Аркашки, это дитя их негромкой любви.
А вот этот огромный синий голубь на притолоке — сын Незабудки, старой и верной почтовой птицы. Как он быстро вырос, какие прекрасные крылья у этого летуна! Только почему у него такие большие стариковские наросты на клюве?
Боже мой, это же не сын Незабудки, не Вьюн! Я еще не верю в свою догадку, еще шарю глазами по крыше, по балкону, в голубятне. И вижу: вон же, на своей полочке чистится Вьюн!
Так на притолоке не он, не он, не он! Не Вьюн!
— Ну, здравствуй, Орлик! — говорю я птице на притолоке и, достав трубку, засовываю ее не тем концом в рот. — Здравствуй, старичина!
Моя старшая дочь слушает из комнаты смешные слова отца и, наверное, думает, что у него опять отчего-нибудь защемило сердце.
А я ни на кого не обращаю внимания и сосу трубку, не замечая, что она пуста, и радуюсь жизни, которая не стоит на месте.
ВЫСОКАЯ СТРАСТЬ
В детстве я не понимал отца, когда он хмуро говорил мне:
— Черт те что! У меня сложная операция, подготовиться надо, а ты на голове ходишь!
Я пожимал плечами и возражал:
— Ты не сердись, батя. И вовсе не на голове. Что же мне — не дышать теперь, что ли?
— «Не дышать»! — ворчал отец. — Куешь молотком по лбу, весь дом — вверх дном.
— У всех мальчишек голубятни — как голубятни. А у меня — каши просит. По-твоему — так и надо?
В своем мальчишеском неведении я досадовал на отца и не знал, ка́к ему нужна тишина.
И еще приходит в память вот что.
Мы много раз атаковали рощу Ухо — и путь наш лежал через большую ровную поляну, похожую на чистую скатерть. Но уже после третьей атаки скатерть эта превратилась в рваные клочья, покрытые серым и красным. Вскоре даже это — кровь и шинели убитых — было забрызгано черной гарью взрывов. Выстрелы и гуденье сомкнулись в сплошной рев.
Приказ комбата снова поднял нас в атаку, — и мы нырнули в этот рев, чтобы пробиться или упасть рядом с товарищами.
Я был тогда совсем молодой, — и добежал к окопам в роще одним из первых. Полоснул из автомата в теплую длинную тьму траншеи, спрыгнул вниз и, увидев, что там нет живых врагов, почувствовал вдруг смертельную усталость.
Комбат велел отдыхать. Я лег прямо на дно окопа, сунул автомат под голову — и тут же заснул мертво́. Над головой визжали бризантные снаряды, захлебывались в скороговорке пулеметы, ныли мины. Я ничего не слышал. Нет, не только потому, что измотали атаки, — еще и потому, что молодость непритязательна к шуму, даже если это очень неприятный шум.
Потом уже, на другой войне, мне было трудно забываться в окопе, содрогавшемся от взрывов, и я даже с завистью смотрел на мальчишек, безмятежно спавших под зверье вытье взрывчатки.
И вот теперь знаю: чем ты старше — тем больше тебе нужна тишина. Еще и потому, что с годами человеку следует думать о прошлом и будущем и делиться своим опытом с теми, кто начинает путь.
Пусть читатель не сердится на меня за это длинное вступление, — без него, может статься, не все будет понятно в той истории, которую я хочу рассказать.
Итак, вот эта история.
В небольшом дворе нашего дома — масса мальчишек и девчонок. Их так много, что даже когда одни молчат, то другие производят столько шума, что его с избытком хватает на головную боль.
Вы писали, конечно, школьные сочинения — и знаете, какая это прямо невозможная вещь — сочинять. Но в классе, на уроке, вам никто не мешает, а тут только присядешь к пишущей машинке, — слышишь под окном:
— Петьк! А Петьк! Ты — казак, я — разбойник. А?
И мальчишки начинают играть в казаков-разбойников с такой свирепостью, что карандаши у меня на столе трясутся, как в лихорадке.
Или совсем мелкие девчонки соберутся в колечко и начинают выводить дискантишками свое: про серенького козлика и каравай.
Обычно громче всех поет моя младшая дочь.
Тут уж у меня есть некоторые права, и я, высунувшись из окна, кричу ей:
— Доня! Ты б подальше куда-нибудь, право. Ну, что вам — места во дворе мало?!
Девчонки безропотно отходят на десяток шагов, опять сдвигаются в кружок — и продолжают тащить из меня душу своими козликами.
И я чувствую, как начинает ныть голова, будто ее сверлят ржавым тупым гвоздем. Можно, я вас спрашиваю, писать сочинения в таких плохих нечеловеческих условиях?
Но больше других мне досаждает Гошка и его компания.
Гошка — мой лучший друг и единомышленник. Полгода он ходил ко мне на балкон и набирался всякой премудрости. Если вам теперь понадобится купить декоративного или гонного голубя, смело обращайтесь за советом к Гошке: по этой части Гошка знает все, даже если вы покажете ему египетского смеющегося голубя или снимок дронта, жившего в древние времена на острове Маврикия.
Короче говоря, Гошка наконец объявил мне, что строит голубятню и приглашает принять участие в этом торжественном акте.
И я сам, собственными руками, ничего не подозревая, построил у себя под окнами свою беду.
Уже в следующее воскресенье — голубиный базар собирается только по воскресеньям — Гошка приобрел на рынке три пары птиц в общей сложности — на полтинник. Это были облезлые и задиристые особи, в полном соответствии с невысокой ценой.
Гошка, моментально обросший поклонниками и приятелями, уверял их, что добытые птицы — прямые потомки бельгийских почтарей и николаевских тучерезов.