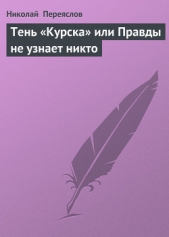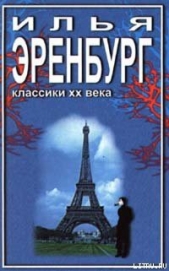Жизнь и гибель Николая Курбова. Любовь Жанны Ней

Жизнь и гибель Николая Курбова. Любовь Жанны Ней читать книгу онлайн
В книгу вошли романы "Любовь Жанны Ней" и "Жизнь и гибель Николая Курбова", принадлежащие к ранней прозе Ильи Эренбурга (1891–1967). Написанные в Берлине в начале 20-х годов, оба романа повествуют о любви и о революции, и трудно сказать, какой именно из этих мотивов приводит к гибели героев. Роман "Любовь Жанны Ней" не переиздавался с 1928 года.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
— Как хорошо! Боря, посмотрите!..
Взглянул. А вечером, когда учитель пошел к товарищу за книгой, затаив дыхание от радости и страха, снес микроскоп во двор и быстро в клумбу закопал. Вернувшись, Николай окинул взглядом стол, все сразу понял, хотел спросить, но не спросил. Он знал: есть дети, много, без акций, без капель для аппетита, без замшевых гетр, там, во дворе, где мастер паял кастрюли, в тысячах дворов — им жизни нет. А этот… И без злобы, от необходимости одной подумал: змеиное яйцо ведь разбивают, вырастет гадюка, всех пережалит. Кто «жалость» говорит — обманщик, не знает жалости. Я жалею. И убью.
6
Так время шло, но, кроме книг, корней, таблиц, была еще одна большая радость. В пустыне акций и Софий, в пустыне книг (слова — пески) людей обрел, простых, почти пещерных. Не в стихах, не в исчислениях, здесь, рядом, в казармах, где застилали лица капустный дух, портяночная твердь и матерная брань, прореяли пред ним впервые отражения далеких звезд, подсмотренных в каморке. Ну разве может жить без человека человек? Пусть брань и храп, вповалку темный сон на нарах, пусть крыса, выбитая втулка, скула развороченная, пудовая, надышанная тишина, среди которой грустно хрустнет хвост селедки, губы, будто крылья, проплещут «Отче наш», а их поддержит колокольный зык икоты… Но после зал глубоковских, входя в казармы, Николай как будто просыпался. Он, кроме пота и махорки, ясно слышал горелый запах горя и тоски, такой тоски, что могут разом зевнуть, уснуть навеки, а могут, выдув из козьей ножки искру, и сон, и дом, и целый мир, как крысу, поджечь.
Особенно с двумя сдружился Николай. Старик из упаковочной, Сергеич. Лицо в провалах и в ухабах, разъятое лицо. Бывало, увидит: мальчик лепит бабу снеговую, не лепится, чуть вышло — упадет, два глаза-угольки в сугробах тонут. Увидит, ласково посмеется, и рытвины на щеках так жалостно разъедутся, проглотят все, что вспоминает Николай другие — тиковый матрац.
Сергеич порою, выпив сотку, раскрывался. Прежде крестьянствовал, конечно, он — самарский. В голодный всего лишился. Побирались. Пашеньку и Глашу — погодки — вынес на плечах. Когда пришел в Самару — уже кончались. А от домов — ведром: зараза. В окнах столько снеди — никто не подает! Тогда с ним и случилось. Зашел в Успенский — помолиться. Дивный образ: каменья, золото, богаческий оклад. Вот тут глаза раскрылись блюдцами, голос стал чужой и зычный, не крестьянский, дьяконов распев. Не выдержал и прямо подступил:
— Просыпься!
Ждал, долго ждал — зерна и жалости. А после, изловчась, на золото плюнул — «щербатовский», «графьев», и ничего не стало…
Рот с того дня промерз, весь ледяной. Только в праздник — сотку да мальчику, что бабу лепит:
— Дуралей, ты хворостинку вставь!..
Николай на нежности Сергеича, на этой виноватой улыбке, среди рождественской ватной бороды, на этом «просыпься!» учился воле ясной и сухой — до треска. Ответит старику:
— Чего там… милый!..
А сам уже кует огромный циркуль — разметить и начать.
Другой — механик Тагин — вправду был другим. Не больше тридцати и холост. Сам управляющий его ценил, часто советовался: «американец наш». И может, если б был американцем, еще б один Карнеги [11] удивлял мир рассказом, выдышанным вместе с серным облаком «гаваны», как мальчик — чистильщик сапог и самоучка изобрел особую систему, вошел в доверие, после приобрел завод и, наконец, теперь пятнадцать голых негритянок по целым дням на бедрах крутят для него сигарные листы отборных ароматов. Но Тагин был из подмосковных — дальше механика не пошел, курил лишь папиросы третий сорт. Зато добрел до многих выкладок и выдумок, которые Карнеги и не снились. Одно он знал — пытать, и, кажется, порой готов был усомниться в своем носу. Пощупает — уж правда ли нос и верно ли кверху любопытно задран, обследуя темный небосвод? Так, с виду белобрыс, мастеровой, и все тут, — таких под праздник на гуляньях табуны: гармошка, тонет солнце в пухе галантных слов, подсолнечной трухи и дружной ругани (в рифму), но это видимость, а остальное чудо. Тагин, вступивши в мир, а было это в Богородске, в рабочей, темной и тупой семье, каморку с треугольным, вдоль и поперек заклеенным стеклом, немедля превратил в эдем.
Есть мудрость вековая — календарь и святцы, закон Христов и мировой судья, столпы державные: «Не обманешь — не продашь», «Тише едешь — дальше будешь», «На Бога надейся, а сам не плошай» и много других. Хотя учили (три молочных да два хороших костяных изъяли наукой), мудрости не понял, презрел. На все: «А отчего?», и были эти «отчего?», и «почему?», и «полно, так ли?» большими стенобитными машинами.
В белесой голове — верховный трибунал и канцелярия Саваофа. Примерно так обдумывали мир.
Ремонт серьезный — от святителей до нужников, — вот люди даже пакостить не умеют. Тагин во все входил. Войдя же, приглядевшись (четверть века), не вздумал, как Сергеич, от золота каких-то сантиментов ждать (не сталь, металл никчемный!), нет, дойдя до двоеточия, стал у приятелей, в депо, в воскресной школе и даже в пивной Калинкина искать «такого человечка». Какого, в точности не знал, но слышал — ходят, приписывают и листки дают. А как-то в воскресенье пошел, не думая о многом, просто взнеся сапоги до каретной черноты, на Воробьевы горы — пара майского вобрать. Вокруг палаток бабки дребезжали:
— Чайку! Чайку! Пожалте к нам!
В беседках, густо потея, нагибали чайники, кто честный с чаем, кто обманный с «казенным», и, наловчась, подхватывали однозубой вилкой кубик колбасы, столь ароматный, что спасала лишь пролезшая в беседку, ободранная, юркая сирень. Тагин спустился к реке. Вдруг видит, на лужайке некие сгрудились, а посередине маленький, очкастый, все говорит и говорит. Слова хотя невнятные, но круглые — не подцепишь, как кинет шар — все кегли разом лягут.
Тагин подсел как будто невзначай. Послушал. Кто-то, тоже, видно, энергичный, хотел вскарабкаться наверх и показать всем: «Личность». Дудки! В амбицию: «Рабочий — это класс. Идеалисты — кто такие? Дурачье». Очкастый встал, по травке топнул, рявкнул:
— А вы читали «Анти-Дюринг»?
Тагин больше не слушал. Глядел блаженно на потные очки, на круглый рот (в нем языкастый обтачивал ужасные слова), на двадцать огорошенных голов, кивавших в лад словам и ветру. Глядел и думал: «Вот я и нашел такого человека».
Засим пошло все очень быстро: идейная бородка Игоря-пропагандиста, кружок, а там, к зиме, земля обетованная — районный комитет.
Встречая Николая, Тагин вначале был конспиративен и на вопрос наивный: «Что же делать?» — отвечал насмешливо:
— Поступайте в общество попечения о народной трезвости.
Но, приглядевшись тщательно, одобрил и безо всяких околесиц прямо ошарашил:
— Вот вы толковый человек, а почему не в партии?
И также сразу Николай все понял: книги прочитаны, отчеркнуты, конспект готов — пора писать не на бумаге, а на рыхлом теле глубоковых, власовых и прочих.
— Вас свяжет здесь один зубастый большевик…
Дня три спустя Николай во тьме перебирал затоны площадок, выискивая тщетно квартиру 46. Наконец нашел… «Массаж лица. Мадам Цилипкис». Благоговейно замер. Прошмыгнула рыжая Цилипкис, попахла на лету брокаровской сиренью [12] и голым локтем приоткрыла дверь. Там верещали: хроменький студент-технолог, рябой угрюмый дядя, девица очень тощая, на долгих заседаниях явно утратившая пол, еще какие-то. Дым — тверд.
— Я требую еще профессионала…
Поспешно Николай без нужды, трижды всем, а особенно рябому дяде, шепнул пароль:
— Каплун!
Девица нервно стукнула изгрызенным карандашом: молоденький, не знает конспирации, так прямо и «Каплун», сразу видно, не работал.
— А ваше имя?
— Курбов Николай (по-гимназически, как вызывали).
Та даже карандашик обломала: при всех «Каплун», фамилия, вот-вот покажет паспорт. И очень неохотно: