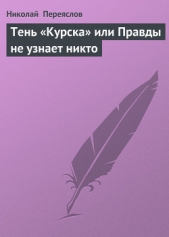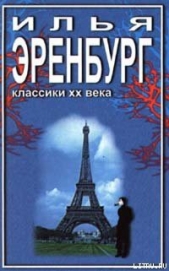Жизнь и гибель Николая Курбова. Любовь Жанны Ней

Жизнь и гибель Николая Курбова. Любовь Жанны Ней читать книгу онлайн
В книгу вошли романы "Любовь Жанны Ней" и "Жизнь и гибель Николая Курбова", принадлежащие к ранней прозе Ильи Эренбурга (1891–1967). Написанные в Берлине в начале 20-х годов, оба романа повествуют о любви и о революции, и трудно сказать, какой именно из этих мотивов приводит к гибели героев. Роман "Любовь Жанны Ней" не переиздавался с 1928 года.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Он понял, и прошлое ласково прочь отстранил. Спокойно выпил из чайника старый, еще для мамаши заваренный, чай.
Утром был маленьким мальчиком Колей. Теперь — Николай Курбов.
4
В гимназии Курбова очень ценили. Педель [5] Аполлон Афанасьевич шепелявил:
— Не ученик — самородок.
Правда, шалит, порою несносен — осенью, например, калоши отца Михаила прибил гвоздями. Вдевал отец Михаил, вдевал, чрезмерно напрягался, а после усомнился в себе, стал воздыхать. Весь класс наказали, но Курбов признался. Шесть воскресений за это латинские «бестии» и «фруктусы» честно склонял. Но это-то что — педель добрый, сердечный, сам понимает: без шалости разве сыщешь ребенка? Возраст такой. А все-таки Курбов особенный, прямо классический отрок. Хоть беден, весь латан, не может на плюшку взглянуть без волнения, а все же в предметах первейший. Министр приезжал, кого вызывали? Конечно, его! Задачу как схватит, чиркнет мозгами — готово. Ей-ей! В двенадцать лет — математик!
Узнав о смерти матушки Курбова, Аполлон Афанасьевич в учительской даже чаю не допил — взметнулся. Егорьев, историк, председатель Общества помощи — к нему:
— Сами Курбова знаете. Он, так сказать, украшение…
Егорьев вначале чуть покобенился:
— Курбов Николай? Во втором параллельном? Как же, знаю, знаю. Он баламут. Я с ними начал удельный период в доступных рассказах — Святополк Окаянный, ослепление Василька. И что же? Курбов выпятил руку: «Иван Ферапонтович, а как эти дяди промышляли себе оружие?» Так и сказал — не князья и не люди, а «дяди». После опять: «А как они строили Киев? Были ли с трубами печи? Разводили ли кур? А то вы всё про одних мазуриков!..» Слова-то какие! Вот из таких и выходят (в ухо педелю дунул) тер-ро-ристы! «Что да как?» Дурак!
Но вскоре смягчился и обнадежил педеля:
— Есть заявление. Власов-кожевник — сын у него второгодник, в четвертом застрял. Так вот этот Власов сказал мне: «Если болван в пятый пролезет — возьму на иждивение бедного мальчика. Буду выплачивать нравоучение и осьмнадцать рублей на харчи».
Сделано дело. Власов Никита, слизнув задачу у соседа, пролез. Курбов устроен. Добренький педель пошел в Еропкинский сам:
— Учись и ручку целуй благодетелю. А гвозди оставь. И про Святополка вызубри, чтоб назубок. Ты теперь не просто гимназист, а в некотором роде (палец к небу, по слогам) сти-пен-диат!
Власов, увидев, гаркнул:
— Вот ты какой! Потаскухин фрукт! Отвечай: чьи на тебе брюки? Мои, по моему милосердию. Смотри на коленках не протри. Ремнем! Учись, пуще всего — покорствуй. Кончишь учебу, будешь честный, непьющий — возьму тебя младшим приказчиком. И руку (рука склизкая, мясистая) — целуй.
Целовал.
Так каждый месяц. Очки нацепив — в балльную книжку: чтобы были пятерки. Раз отчеркнул Егорьев солидный кол (сказал Николай: «Эпиктет, Эпикур — все одна семейка, обоим небось рабыни исподнее, то есть тоги ихние, стирали»).
Власов кол жирнущий носом вдохнул и сладко погладил живот:
— Эй, Дунька, зови Никиту!
А Николаю:
— Пащенок, ложись на скамью!
Очень хотелось Власову сына-тупицу всласть постегать — жена не давала. Только он за ремень — «ах!», на диванчик, отпаивать надо. Хоть на этом щенке отведет замлевшую руку.
Никите тоже не вредно взглянуть.
— Вот так и тебя подобает!
Сложил ремешок и пошел. Считал с замедлением, до двадцати насчитал, устал. Никита — истый теленок, глаза из оптической лавки — стоит и в рукав гогочет: «Гы-гы». А сам Николай не пикнул. Обрядно чмокнув запотевшую руку, взял восемнадцать рублей и ушел.
Не было злобы — только недоумение. Пожалуй, жалость. Какая должна быть крысиная скука, чтобы в мире, где числа, где башни, где каждой гайки трамвая обдуман гуд и пролет, чтобы в мире, где грозы, над грозами звезды, чтобы в мире, в огромном мире, сидеть на Полянке, за ватою окон, в квартире густо надышанной, с фикусом, с пуфом, с пудовым золотом риз, с толстым теленком Никитой и часами пыльной душой оседать на этот вот фикус, на пуф, сладко, как будто желудком, мечтая: «Эх, хоть кого-нибудь выпороть!..»
Так Николай судил. Не ненависть к аду его подмывала, но четкий, продуманный рай. Он лестницу быта — чванливых, не люди, а сало в жилете, подвижников в ризах высокой пробы, философов постных и все оправдания, от послеобеденных «что же есть истина?» до пьяной отрыжки мордобойного околодочного — не мог ненавидеть, только жалел. Знал, скоро окрепнут руки, он выплеснет стылый и сальный навар, пойдет на работу — корчевать жизнь. Какая здесь злоба — просто гнилушки, расти мешают. Москва — один беспорядок, придется ломать, хотя ломать он не любит, придется: нужен для стройки пустырь.
Читал он, как прежде, том в присест. Буквы сменили суровые мысли — чем чище, голее, тем ему ближе. От мысли ждал мысли, от солнца — теплыни, от жесткой подушки — сна. Читатель Спинозы, он любил бильярдное поле, любил беззлобно громыхать, любил на катке лихие спирали «снегурочкой» очертить свистя. Был он прост как идол, — едва обтесали, вот шея, вот ноги, вот пуп, и нет ни ресниц, ни морщинок, ни междудольных чувств, ни крохотных росчерков грез.
Прочел «Идиота» — долго смеялся, как будто смешной анекдот. Есть мука от жизни, ее ведь он знает, но мука для муки — чудят чудаки!
Иные слова его веселили: «святыня», «творец», «вдохновение»; он, повторяя их долго, по-детски смеялся. А после бежал к микроскопу и жадно взирал на миры. Под глазом как будто двери трещали. В каждой бактерии — знак бесконечности — билась восьмерка. Или с готовальней. Чертил. Число обличалось, росло. Теоремы ясностью жгли детские щеки, и был он не гностик, не каббалист — влюбленный.
Другие вздыхают: «Прекрасная Дама», туманы, и где-то в легчайшем эфире трепещет вырез нечаянный шеи. Была ему дамой машина, и нежно шептал он: «Динамо…»
Любил вечерами читать Пушкина, завывая и качаясь. Раскрывал наугад — все равно, где начало и где конец. Образы — мимо, не их он любил. Мимо слова — ну, «Парни» или «гранит», «ножки» или «площадь», — одно он любил: как шествует время, как мчится копытчатый ритм. Из слова в слово, не падет, не изменится, и слово-камень, и слово-цемент, и четыре угла текучей пирамиды.
Потом жевал сухой бублик и, просыпаясь утром, пугая хозяйку, вопил: «О! О!» — от солнца, от зайчика на стенке, от своих пятнадцати лет.
Вот и шестнадцать. Потянулся. Силу почуял. Теперь не страшно. Больше не будет мокрой ручищи Власова!
Егорьев-ворчун для проформы слегка поворчал:
— История — свиток. Героизм. Программа округа. Необходимо придерживаться…
Но мигом устроил. Николай — репетитор. Обойная фабрика Глубокова. И сразу (куцая куртка, на локтях треугольники), едва вошел, пряча красные пальцы за спину, глаза кольнули бра и брызги бриллиантов с атласных животов, дух захватило от душных духов, а кругом, а в нем на хрусталиках люстра, в неподвижных и тусклых зрачках, по жердочке прыгало чье-то сопрано. Вновь рокот. Хозяйка (глаза фламандской коровы, будто жует сверхурочную жвачку), влача горделиво свой шуршащий хвост, Николаю сердечно кивнула коровьими глазами — шеей короткой без крайней нужды она не любила двигать.
— Ах, вы — воспитатель Бори! Он не мальчик, а чудо. Надо только понять его душу!..
И муж, по дороге к закуске:
— Очень приятно. Я сам не чужд… идеи Песталоцци, Монтессори [6]… А в общем, я враг систем…
Соседу:
— Колоратура-то какая… Милости прошу!.. Депре доставил мне, оказия: «Шато-де-Руа».
Вот молодежь Глубоковы: дочь — поэтесса, не Мария — Мариетта, сын — студент Олег, философы, художники, писатели и просто кудреватые, мечтательные снобы, живущие среди вернисажей, рифм, только что открытых религий, цыганок из Тамбова и купчих, склонных к сатанинским мессам (как у Поисманса).
Мариетта прекрасна — высокий лоб, очень точный овал и на тонкой, с просинью, шее детская нитка жемчужин. Поклонники часто спорили, один говорил: «Нечто византийское, напоминает Равенну», другой — «Камея Ренессанса», третий — «Этрусская ваза» и много еще раскопок, стилей, стильных суждений — поклонников много. Сейчас — она в профиль, закинув головку (с Глазовым — в профиль, Глазов сказал про этрусскую вазу), читает сонет Малларме. Послушайте «н» носовое, и в «ннн», как в туманах, прореет случайно понятное слово: «безмолвие», «лилия», «лебедь». А Глазов взволнован, забивает слюной янтарный мундштук и смотрит, — ну, правда, не профиль — пониже, где скромно гаснет жемчужный закат, на тонкую шею, так разом и впился бы, куснул бы, чтобы знала, не ваза, не «ннн», а вот просто! Он хочет! Но все здесь пристойно, и он лишь в брючном кармане коробку спичек ломает от злобы. А Мариетта, расширив глаза и повернувшись анфас (подошел скрипач Коловен, автор «Равенны»), читает уже пятый сонет, и «лебедь», задевши «лилию», может быть, станет «безмолвием».