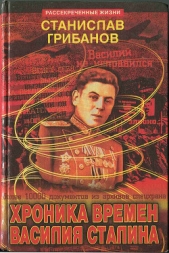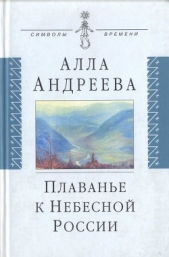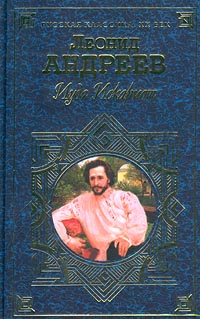Канун
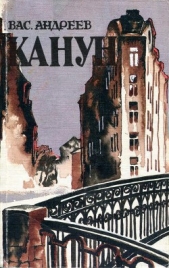
Канун читать книгу онлайн
Творчество талантливого прозаика Василия Михайловича Андреева (1889—1941), популярного в 20—30-е годы, сегодня оказалось незаслуженно забытым. Произведения Андреева, посвященные жизни городских низов дооктябрьских и первых послереволюционных лет, отражающие события революции и гражданской войны, — свидетельство многообразия поисков советской литературы в процессе ее становления.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Чуть пристав его не застрелил на месте.
Что делали с ним в участке после — неизвестно, но предположить можно все, кроме хорошего.
Когда спрашивали товарищи:
— И понесли же тебя здорово?
Павлик:
— Не помню, здорово или нет. Известно, в Коломенской здорово несут. А положим, не знаю. Черт их знает!
— Как же не знаешь? — приставали товарищи.
— Да вот — не знаю. Чего пристали? Идите и спросите.
— Да ты без памяти был, что ли?
— Зачем без памяти? Я все время пристава крыл почем зря.
Парни удивленно переглядывались, но не смеялись.
Над геройством — какой смех?
Не герой разве человек, избиваемый не по-человечески и через день-два забывший, как били: больно или не больно?
Это не геройство даже, а выше.
Имени этому — нет.
Так и товарищи Павликовы сознавали.
И уважали за это молоденького, с Садовой, из греческой кухмистерской, поварка.
Перед необъятной волей его — преклонялись.
Да и воля ли это была?
Имени этому тоже нет.
Есть, но имя — тайное.
Сказочная какая-то красота, изумляющая, поражающая, в Павлике цветущим цвела садом.
Садом этим роскошным он ограждался от всего, что плохо.
И огражденный — не должен был знать страха, боли и, может быть, всего, что омрачает, старит, изнуряет, убивает человека. Поэтому, насильно приучаемый к водке, табаку — в рот, случалось, вино вливали и совали папиросы, — не привык ни пить, ни курить.
Потому, с девицами ночуя, спал крепко, к стене обретясь.
Огражденный.
И — счастливый, как никто, как само счастье.
И потому знавшие Павлика преклонялись перед ним.
И когда Гришка-Христос называл его красивым, то щеки ли одни розовые, или кукольные глаза имел в виду?
Не другую ли, тайную красоту чувствовал Гришка в хорошеньком поварке?
Гришка-Христос из всех покровских умнейший и начитаннейший.
— Гришка любому студенту очки вотрет! — говорили про атамана товарищи. — Он все книги перечитал, оттого и ослеп.
Гришка действительно знал и читал много, но понимал как-то все по-своему.
Однажды Васька-Пловец слышал, как Христос беседовал с приятелями о книгах, о писателях.
— Самый первосортный писатель — это, братцы, Пушкин. Здорово писал. Все про нашего брата, шпану. Есть у него рассказ в стихах про наших, покровских.
— Брось лепить горбатого, Гришка! — смеялись парни.
— Чтоб я был подлец, если вру. Про Покров, ей-ей! И ловко как! Там у него парнишка, вор-домушник, нанялся к купчихе в кухарки.
— Парнишка? В кухарки? Как же это?
— Чего ржете, дураки? Очень просто… Подбрился, парик купил, косы, накрасился. Платье бабское. Подложил, где надо, ваты: титьки, там, и все прочее, честь честью. А купчиха слеповатая, вроде меня. Приняла за девчонку.
— Ну? — настораживаются парни.
— Ну, а теперь он живет и закрутил любовь с дочкой купчихиной. Открылся: «Так, мол, и так, люблю тебя, потому и платье бабское надел». Дочка спервоначалу испугалась. Уговорил. Баки вколотил, что надо, а после и дочка в него втрескалась.
— Врешь?
— Будь я сволочь! Так у Пушкина и сказано. Эх, черт возьми, забыл, а ловко у него про любовь ихнюю стихами… Так вот, парнишка живет у купчихи. А борода выросла. Стал бриться, а купчиха и закатись в комнату.
— Ну, ну? — уже теряют терпение парни, а у Павлика и рот полуоткрыт, и щеки зарумянились.
— Теперь купчиха шухер подняла. А парень ее — раз! — бритвой. Всю «хазовку» обчистил. Брильянтов одних на три тыщи, денег — не помню сколько, да и был таков. Шикарно писал Пушкин!.. И парень был что надо. Тоже, как и мы, хулиганил, но, конечно, по-благородному, с револьвером. Его и убил черносотенец, офицер. Вроде как Вальку-Баяниста. Только Пушкина — за шмару.
О книгах, писателях, хотя по-своему, фантазируя и сочиняя, много говорил Гришка, и кое-чему научился у него Пловец.
И то, что упорно стал искать книги и, найдя, читал запоем, и то, что на драки не как на безобразия стал смотреть, а как на необходимый каждому пройти путь, то, что сознательным хулиганом стал, — всем этим обязан был Гришке.
И сознавал, и ценил это, и благодарен был учителю и наставнику, площадному своему Христу.
За два-три года Васька весь курс жизни прошел. Все, что необходимо знать городскому парню.
Уличный курс. Улица учила. Кто же больше?
Одна она и мать, и наставник, и профессор.
Школа ее — живая. И наука — живая. И вся она, улица, — сама жизнь.
С детства на улице. Ею воспитанный, живущий ею, знающий ее, чувствующий, осязающий грудь ее суровую, но ласковую необутыми ногами (не ходящий никогда босым по земле человек — несчастен, земли не знает, любить землю не может так сильно, как тот, кто телом своим ее ощущал), школу улицы прошедший суровую, но не обманную, закаляющую тело и окрыляющую дух школу, Васька-Пловец с юности стал улицы гражданином.
Знал науку — закон ее, как прилежный ученик урок.
А наука — закон ее — искание путей к борьбе и сама борьба.
И еще тверже знал, что один — не боец, что партия нужна, артель.
И не только знал — знать-то не штука, — а бороться умел.
И опасности прямо смотрел в глаза, как при «сходке», стычке, на врага в глаза — непременно надо. Опускать головы, глаз прятать — нельзя.
Гришкина еще наука это.
Гришка многому научил. Он же пробудил потребность к знанию. Пушкиным натолкнул. С Пушкина Васька и начал, с «Домика в Коломне».
Многого не понял, многое показалось скучным, ненужным, но полюбил Пушкина и гордился им.
— Пушкин — голова. Что надо парень! Такие люди — на редкость.
Так говорил. И с гордостью — еще:
— Наш, покровский.
Верил, что покровский.
Раз «Домик в Коломне» описал — значит, покровский.
Много воды утекло в Екатериновке и Фонтанке, много сменилось парней.
Гришка в Обуховской кончил, от ран. Сакулинский атаман Соловей запятнал.
Павлик, заменивший Гришку, утонул во время волынки с пряжинцами, близ Турухтанского, Вольный тож, острова.
Много смен и перемен. Баламут в Балаклаву пешком ушел и не вернулся. Зачем ушел — ему только, Баламуту, известно. А почему не вернулся — неизвестно никому.
Женя-Сахарный «котовить» стал, на проституткины деньги жить, с Анюткою жил, со шмарою.
Идет, бывало, по улице, а мелочь, плашкетня — посадскими кругом воробьями — скачут: «Кис-кис! Котик! Кис-кис!»
Дразнят.
Бульонный тоже по примеру его хотел жизнь устроить — на бабий перейти доход. Да только ошибся. Под каблук бабе попал. Со вдовой, ларечницей бывшей, торговкой, сошелся. А она — жох, торговать его заставила, с лотком: дули моченые, квас грушевый. И каждая копейка — на счету. Работником сделала. В черном держала теле, била — чуть что. Баба здоровая, деревенская. Бульонный против нее — прыщик.
Иной раз не выдержит Колька, сбежит. Неделями ночует в чайных, на «гопе», в ночлежке то есть. Ищет его Авдотья — жена. Разузнает. Разыщет.
Крик поднимет, на всю площадь:
— Изверг! Пьяница! Мучитель!
Да со щеки на щеку при всем-то народе!
Потом — за воротник и, как мальчишку, тащит домой. Очнуться не дает.
Плохое дело Бульонного!
Много перемен. Смен много.
После Павлика Самсончик атаманил. Самый молодой из атаманов, семнадцати не было — не запомнят таких. Но атаман приличный.
Потом Самсончик на добровольном транспортном судне в плавание кругосветное уехал.
Васька стал верховодить.
Тогда же, в первые месяцы атаманства, закрутил Пловец любовь с Нюткой-Немкою из чулочной, с Английского.
Нютка — шикарная, пышная, стройная; волосы только светлые очень не особенно нравились Ваське. «Будто немка» — так говорил о волосах. И лицом Нютка на немку похожа: полная, румяная, глаза — голубенькими стеклышками.
Немка — девица «не выкати шара» — артельная, не ломака.
Крепко Васька ее любил.