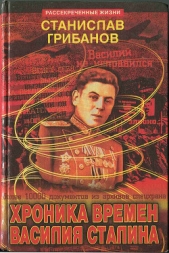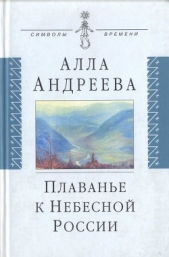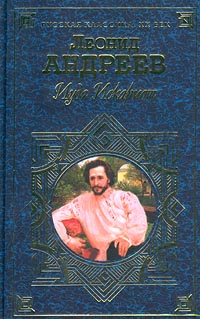Канун
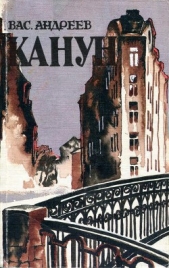
Канун читать книгу онлайн
Творчество талантливого прозаика Василия Михайловича Андреева (1889—1941), популярного в 20—30-е годы, сегодня оказалось незаслуженно забытым. Произведения Андреева, посвященные жизни городских низов дооктябрьских и первых послереволюционных лет, отражающие события революции и гражданской войны, — свидетельство многообразия поисков советской литературы в процессе ее становления.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Скидывая с плеч пиджак, оставшись в одной розовой с синим поясом рубахе, нарядный мальчуган закричал нестерпимо звонким, как разбиваемые вдребезги стекла, голосом:
— Пок-ро-о-в! Выхо-ди-и-и! Пряж-ка приш-ла-а-а-а!
Билось в ушах от невыносимого крика, даже обругался Васька, а Самсончик — так же, как розовый, — стеклом дребезжа:
— Поне-ес! Пряж-ка! По-не-е-с!
Выбежал, выставив полусогнутую левую руку и на отлете — правую.
Ждал.
Розовый, бросив на мостовую пиджак и фуражку, кинулся на Самсончика, наклонив в светлых бараньих кудряшках голову.
Схлестнулись. Отскочили.
Словно два волчка, полосатый и розовый, завертелись: один — на бронзово-золотистых, другой — на черно-блещущих ногах.
В коротком взмахе стремительно взлетали руки, хлопали, отбивали одна другую, выстрелами влеплялись в полосатое и розовое тела.
Пловец, шагу не могущий сделать, дрожащий от неописуемо радостного волнения, забравший в рот ворот рубахи, смотрел на еще не виданное по красоте единоборство.
Сжимались непроизвольно кулаки, топтались нетерпеливо ноги, до боли напрягаясь в икрах, и теребился, как удила, скрипящий на зубах ворот рубахи.
А когда розовый клубок отлетел, в розовую развернувшись полосу, всклубивши пыль мостовой, а полосатый Самсончик, выжидая, с рукой на отлете, с грудью, крутой поднявшейся ступенью, — крепко стоял, будто врос в площадь стройными смуглыми ногами, — Пловец, вскрикнув торжествующе: «Понес!» — бросился на двух пряжинских плашкетов, так же, как он минуту назад, нетерпеливо топтавшихся. Увидел на мгновение спокойные, детские на чистом лице глаза и другие — острые, на рябом широконосом лице; потом ощутил тупую боль под горлом, пропали четыре глаза и два лица, а ноги сами скользнули вперед; боль в спине и затылке.
«Сшибли, черти!» — быстро подумалось, а в ушах хлестнуло:
— Пловец! Не качай!
Вскочил. Подбегали Самсончик и нарядный кудряш.
И снова десять рук, проворных и метких, замелькали; десять ног, упругих и быстрых, заклубили пыль площадную.
Но сзади и впереди, почти одновременно, свистки. И почти одновременно зазвенели нестерпимо резко розовый и Самсончик:
— Конча-а-а-ай!
— Пловец, хряй сюда! — отбегая в сторону, крикнул Самсончик.
— Куда? — догнал его Васька.
— Сейчас начнут…
Самсончик дышал порывисто, сплевывал закипавшую в уголках ярких губ белую слюну, вздрагивали ноздри и огоньки в цыганских глазах.
По площади — быстро-быстро — две цепи, одна навстречу другой.
Впереди покрошей — Христос-Гришка, невзрачный, сутулый, близоруко вглядывающийся, качающийся при ходьбе, как и все, а во главе Пряжки — высокий, с шапкою золотистых кудрей, парень.
— Ихний атаман, Шурка-Казак, братишка Баранчика, того, с которым я сейчас хлестался, понял? — скороговоркою горячо задышал Самсончик и тут же в нескольких словах рассказал, как Гришка Казаку нос сломал.
— Один раз Гришка Казаку по сопатке ка-ак даст! Нос — хрясть и посичас на боку.
И добавил веско, будто точку ставя:
— Мо-о-лодчик!
Первыми схлестнулись атаманы.
Звонкие, по всей площади, удары.
Отскочили. Переменились местами, как петухи. Разошлись, покачивая раздвинутыми руками.
«Будто плывут», — подумал Пловец.
Казак упал.
— Ловко! — радостно крикнул, обжигая Ваське ухо, Самсончик. — Ай да Христос! Видел, Пловец, а?
— Мо-о-лодчик, Гришка, — добавил, точку поставил.
Потом — глухой гул, свист; обе партии, сблизившись, стенку образовав каждая, двинулись.
Сошлись. Перемешались. Замелькали руки. Гулко зазвучали удары. И вместе с ударами — свистящими хлыстами по воздуху — бранные слова. С каждым мгновением бойцы оживлялись.
Руки — бесчисленные мельничные крылья.
Брань — все резче, но короче ударяла по воздуху.
Падали. Вскакивали. Падали.
Туманом — пыль над площадью.
Васька дрожал, топтался, перебегал с места на место, подпрыгивал, как от уколов.
И теребил зубами ворот, уже порванный и измокший от слюны.
Самсончик томился тоже: огнем горели смуглые щеки, свечками — глаза. На жарких губах высыхала пена.
Приседал к земле, вцепляясь темными крепкими пальцами в булыжины.
Как раскаленное железо рукою часто, порывисто хватал Ваську и обжигал:
— Гришка-то! Гришка! Толково бьет! А-а!
Васька, академик по драке, оценивал «работу» атамана добросовестно: угадывал каждое движение, предусматривал результаты. Одобрял меткие удары и досадовал на промахи.
А Гришка, вошедший в раж, разлохматив волосы, в щелки сощурив близорукие глаза и оскалив крупные лошадиные зубы, бил метко, привычно, и каждый почти раз от стремительного удара его костлявого кулака полосой или пятном ложился знак удара на лицах, неосторожно под него подвернувшихся.
Вдруг двое налетели на Гришку.
И тотчас же один отскочил, а другой как-то странно сел на землю и медленно согнулся в боку.
Кто-то что-то крикнул. Сразу прекратилось побоище.
Опять крик:
— Запятнал!
А над ухом Васьки обжигало:
— Гришка… Фарватера-Федьку… перо-ом.
Васька вздрогнул от этого шепота и взглянул на товарища.
Ослепительно горели черные глаза, раздувались ноздри, а в углах губ, лоснящихся алостью, белая вскипала слюна…
Фарватера вынесли на руках из круга.
Трель фараонова свистка близко где-то настойчиво и беспокойно сверлила воздух.
Гришка-Христос, покровский атаман, убивший пряжинского бойца Фарватера «мореным», то есть отравленным, ножом, был парень что надо.
Своих товарищей любил, как Христос учеников.
Часто говорил, правда, полушутя:
— Стервецы, ведь я вас, как Христос, люблю. Христос я для вас или нет, суки вы паршивые?
Даже как у Иисуса Иоанн был любимейшим, так у Гришки — Павлик, поварок из греческой кухмистерской с Садовой.
Гришка любил Павлика за молодость и необычайную смелость.
Павлик действительно был смел.
Прямо не умел бояться. Не понимал боязни.
Гришка о нем говорил так (философствовать, как и Христос, он любил):
— Есть люди всякие, каких чудаков бабы не родят. Я вот музыки не понимаю. Один черт для меня, что пианино, что трензель или барабан. Шум, и больше ничего. А скрипку терпеть не могу. Пищит, скулит, точно нищего через Урал тянет. А вот Павлик страха не понимает. Как вот я — музыки. Верно, Павлик, не понимаешь?
Павлик смеется весело, по-детски. И по-детски смотрит глуповатыми, красивыми, как у куклы, глазами:
— Как не понимаю? Что я — чума, что ли? Я знаю: страшно. А только не знаю, как это страшно-то бывает.
— Погоди! — перебивает Гришка. — Идешь ты, скажем, с Лизкой со своей на Митрофаниевском кладбище.
— Никогда мы с ней там не гуляем. Скучно, да и воняет.
— Дурак! Это мы предположим. Понял?
— Ну ладно, понял.
— Ни черта ты не понял… Значит, идешь. Теперь, вдруг из могилы — мертвец. Паршивый такой, почти сгнил.
— Стой! Как же он может?..
— Э! Не перебивай… Это так, вроде сказки. Ну, вылез это… «Ты чего, мол, шкет, со шкицею треплешься, мне, мертвецу, спать не даешь?» Понял? Это мертвец тебя спрашивает.
Павлик смотрит на Гришку непонимающими глазами и начинает вполголоса:
— До-ля-фа!.. Ты не ври…
Гришка безнадежно машет рукой.
Парни смеются.
Павлик не понимает страха, а потому обнаруживание у людей страха, боязни интересует и забавляет его. Особенно если люди боятся пустяков: крыс, пауков, тараканов, щекотки.
Павлик, так же как и ничего, не боится и щекотки, и люди, боящиеся ее, для него необыкновенно смешны и забавны, даже необычайны, как какие-нибудь редкие существа.
Это заставляет его чуть не ежедневно щекотать одного из покрошей, Кольку-Бульонного.
Бульонный — из «чистых», сын вдовы-чиновницы, самый слабый из парней.
Даже малолетний Самсончик с ним справляется.
По будням, в послеобеденные часы, прямо из кухмистерской или после разноса обедов на квартиры, с пустыми судками, Павлик наведывается к Покрову.