Тучи над городом встали
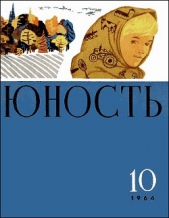
Тучи над городом встали читать книгу онлайн
Опубликовано в журнале «Юность» № 10, 1964
Рисунки Г. Калиновского.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Глава 6
Теперь она приходит к нам почти каждый день. Иногда она говорит с отцом на всякие медицинские темы, а так все больше молчит. Сидит, курит. Мне нравится, когда молодые женщины курят. Когда старухи курят, так это все равно, что мужчины... Она сидит, курит, смотрит в окно, будто нет ни отца, ни меня. Спрашивается: зачем это делать у нас? Точно так же она может молчать и курить у себя дома. Она из Ленинграда. А родители жили где-то в районе Бреста, погибли в первые же дни войны. Когда отец что-нибудь говорит, она вся его слушает — каждым волосом, каждым пальцем. Даже противно. Правда, его многие внимательно слушают. Я в Москве был на его лекции — тишина такая, что я заснул.
Мне нравится ее лицо, вернее, нравилось бы, если б она была просто женщина, посторонняя женщина, которую я увидел на улице. Но она не просто женщина. И поэтому лицо ее мне все-таки не очень уж нравится. Уж слишком часто я его вижу. Они с отцом на «вы», но, по-моему, это маскарад, уж лучше бы по-честному.
А может, все это мне только кажется. Разве не бывает, что мужчина и женщина просто дружат? Просто дружат, ну как я с Хайдером, что ли... Ну не совсем так, но приблизительно. Вот и они просто дружат. И раз она друг моего отца, значит, она и мой друг. Вассал моего вассала — мой вассал.
В детстве у меня была такая привычка: когда кто-нибудь приходил к нам в дом, я спрашивал: «Вы любите моего отца?» Я у всех спрашивал. Некоторые смущались, а отец говорил: «Ты задаешь довольно странные вопросы». А мне было все равно, мне было важно знать, любят ли они моего отца. Если нет, так пусть уходят, пусть катятся колбаской по Малой Спасской.
Я не знал тогда, что люди могут и наврать. Я знал только одно: если они любят моего отца, значит, с ними можно разговаривать. Те, кто любил его, были хорошие люди. А теперь вот я уже не спрашиваю: вы любите моего отца? А вдруг, как в детстве, ответят: да?
Однажды она торчала у нас целый день. У нее был выходной в госпитале. А перед этим мы получили по спецпайку какие-то продукты, и она готовила что-то, какой-то невероятный суп. Она его варила, жарила, парила, пекла... Мне и отцу. А я пришел из школы, мне жрать хотелось чертовски. Да и вообще до этого спецпайка в доме жратвы почти не было. Во всяком случае, супов я уже очень давно не ел. И вот прихожу я из школы, отца еще нет. Только она со своим супом возится. Наконец она его сотворила и наливает мне. Суп был гороховый. О запахе я говорить не буду — с начала войны я такого запаха не слышал. Видно, она изо всех сил старалась для отца и для меня, хотела показать, какая она хозяйка. Значит, наливает она мне этот суп. Он течет густо, медленно, не течет, а сползает с деревянной большой ложки, как каша. Я стою, жду. Глаза у нее блестят, будто она не суп приготовила, а открыла новый закон Бойля—Мариотта. Волнуется, как на премьере. Налила мне миску и говорит:
— Ну, пацан, отведай-ка супу.
Вот это меня и взорвало. Пацаном меня отец называл, она слышала и, видно, решила, что и всем можно. А кто она мне? Какой я ей, к такой-сякой матери, пацан! К тому же это было неожиданно.
И я ей говорю тихим таким, будничным голосом:
— Знаете что, вы меня, пожалуйста, с этого дня зовите по имени-отчеству.
— Ка-ак? — Она побледнела, но глаза у нее какие-то стервозные, веселые...
«Смеешься, — думаю, — ну, смейся. Может, пословицу забыла...»
— Хорошо, — сказала она серьезно и спокойно. — С этого момента я буду называть тебя только по имени-отчеству. Сергей Дмитриевич, я прошу вас отобедать. Суп вам уже подан.
Я хотел сесть за стол, посмотрел на тарелку, которая словно была закрыта дымной завесой. Я сделал было движение к столу, но что-то толкнуло меня в другую сторону, и я, наоборот, отошел от стола.
— Я не голодный. Спасибо.
И я вышел из комнаты. Я постоял еще секунду у полуоткрытой двери, видел, как она села у двух дымящихся тарелок, но есть не стала, а сложила руки на столе и положила на них голову. Так сидят ученики, когда им влепили «плохо» ни за что. Пар уже редел, но все-таки шел, и от этого ее голова была не черная, а словно бы побелевшая. Так и сидит, смотрит куда-то мимо тарелок. Я ее увидел как будто в первый раз. Шея у нее была длинная, гибкая, а на шее беленький воротничок, как у школьницы-малолетки. И вся она была молодая, несмотря на то, что из-за пара голова казалась побелевшей. Но это только так — пар, вроде бы мираж, в самом-то деле у нее ни волоска седины. Пожалуй, она была даже слишком молодая. Суп мой уже совсем остыл, пар шел теперь тоненькой, прерывистой струйкой, а она сидела, положив голову на скрещенные руки, и о чем-то думала. А я старался ни о чем не думать: ни о том, как она готовила нам суп, ни о том, как сказала мне «пацан», ни о том, как я велел ей называть себя по имени-отчеству, ни о том, как я, будто псих, выскочил из-за стола. Не хотел я об этом думать. Лучше бы этого не было! Мой отец сказал как-то об одном своем сослуживце: «Он строго принципиален. У него в каждом заштопанном носке по принципу». Я таких ненавижу, но я и сам стал такой же. Я поступил, как дерьмо. Если б я был человек, я бы честно сожрал тарелку супа и сказал бы ей спасибо. Все это не по-мужски. Мужчина может быть неправ, но он не должен поднимать панику из-за пустяков. Отец втолковывал мне это не раз. Отец прощает многое, но таких вещей он терпеть не может.
А как бы поступил настоящий человек, настоящий мужчина сейчас, уже после всего этого?
Я вижу, как она подняла лицо, вижу, что глаза у нее стали безразличные и она словно примирилась с чем-то или с невозможностью чего-то. Она взяла злосчастные миски и стала медленно выливать суп в кастрюлю. Я глядел на нее и уговаривал себя, что она противна мне. Но самое удивительное было то, что она не была противна мне, и я это знал с самого начала, с первого дня, и как бы я ни уговаривал себя, что я ненавижу ее, я ее навидел (я всегда для краткости употреблял это слово — надо не бояться новых оборотов).
Она стоит спиной ко мне. Она высокая, но не как некоторые женщины, что похожи на метлу или на жердь. Она высокая, но плотная и, видно, сильная, ноги в серых нитяных чулках — мускулистые, с высоким, крутым подъемом. Мне не нравится, когда у женщин плоские ступни. Кажется, что ноги ввинчены в землю и не могут от нее оторваться.
И вообще отец понимает... Но что-то есть в ней забитое. Может, это оттого, что родители погибли в первые дни войны. А может, она и всегда такая была, такой уж характер. Или оттого, что меня боится, или еще почему-нибудь? А чего ей меня бояться — кто я, «злой мальчик», что ли? Я ведь с ней вполне нормально, только без всяких разговоров, без всяких там симпатий и антипатий. Здравствуйте — до свидания. Но вот сегодня я треснул, как старый, сгнивший рояль, треснул и издал истошный звук, аж самому противно. Но извиняться я не могу. Мура это — извиняться. Пусть барышни извиняются.
Она все стоит, смотрит в пустые миски, плечи у нее опущены. Все-таки она женщина, а женщины всегда переживают. Мать всегда все переживала. Но мать быстро отходила. «Ты не умеешь сердиться, — говорил ей отец, — это плохо. Настоящие люди должны уметь сердиться». Мне кажется, здесь он был неправ.
Я быстро открываю дверь и вхожу в комнату.
— Знаете, что... Я за это время что-то проголодался. Я, пожалуй, поем.
Она долго неулыбчиво смотрит на меня. Потом наливает в кастрюлю вторую миску, зажигает керосинку.
— Да вы не грейте, — говорю я ей. — Я и так могу.
— Зачем же так? Мне погреть нетрудно.
Стоит у керосинки, курит самокрутку, дым у самокрутки такой, что даже у меня на расстоянии глаза слезятся. А я сижу за столом, молчу. Положение идиотское. Она тоже молчит. Бледная она все же, но это, неверно, оттого, что курит... Она молчит, и я молчу. Только у нее дело есть — суп греть и курить, а я сижу, раскинув руки на столе, будто я не у себя дома, а в школе, на экзамене, стол пустой и шпаргалок нету. Тут поневоле раскинешь руки. А суп, подлый, все не согревается, только кастрюля чуть позванивает. Наконец звон этот прекратился и перешел в густое гудение, и снова нетерпеливо и яростно забил пар. Она молча налила мне одному.
























