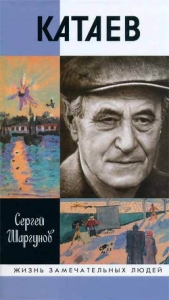Сердце: Повести и рассказы
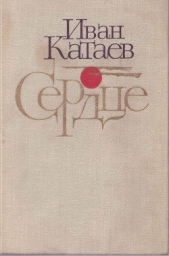
Сердце: Повести и рассказы читать книгу онлайн
Среди писателей конца 20 — 30-х годов отчетливо слышится взволнованный своеобразный голос Ивана Ивановича Катаева. Впервые он привлек к себе внимание читателей повестью «Сердце», написанной в 1927 году. За те 10 лет, которые И. Катаев работал в литературе, он создал повести, рассказы и очерки, многие из которых вошли в эту книгу.
В произведениях И. Катаева отразились важнейшие повороты в жизни страны, события, участником и свидетелем которых он был. Герои И. Катаева — люди бурной поры становления нашего общества, и вместе с тем творчество И. Катаева по-настоящему современно: мастерство большого художника, широта культуры, богатство языка, острота поднятых писателем нравственных проблем близки и нужны сегодняшнему читателю.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Правдами и неправдами заполучили в Москве первоочередную машину. Свежий ласково-черный газовский форд пошел колесить по шоссе и немыслимым проселкам. Отдыхать в сарайчике на дворе калмановской квартиры ему приходилось не часто.
В затишье, вечерами, сходились чай пить у Апресяна, он жил семейно, с уютом. Жена его, ширококостная сибирячка, дошкольница, угощала отличными пельменями. Калманов и хозяин сердито, со скандалами резались в шахматы. Маруся Несторчук полным, спокойным голосом пела украинские песни, раньше за ней это не водилось. Щегольков изображал интернациональный митинг на всех языках, не зная ни одного, и еще вытворял множество всяких номеров. Разговор шел по большому кругу, задевая переписку Флобера, столыпинскую реформу, проблему воздушных десантов, Мейерхольда, маршрут Челюскина, и неминуемо возвращался к деревне. Из поездок все привозили пропасть всяких деловых открытий, забавных историй. Слушая, смеясь, рассказывая, Калманов присматривался к своим помощникам, они ему нравились все больше, хоть он и помнил за каждым его изъянцы. Главное, что было по душе, — их ненасытное любопытство к живым и выразительным фактам, неподкупный реализм, внимательность к хозяйственной почве жизни и к характерам, к мелкой человеческой складке, дающей всю фигуру, — то, что они переняли от партии, столицы, книги и что так облегчало им новый, сельский путь. А все это сборище, вечер в неведомом ему раньше захудалом городке, Маруся — с небывалой силой, как ничто, никогда до сих пор, поднимало в памяти дивизию, старые, теплушечные годы.
Через пять-шесть часов, ранним утром, он уже мчался на своем газовце по старому Тульскому шоссе, где-нибудь далеко от города, один на один с машиной, пристально рулил, обнося себя мимо длинных выбоин и камней. Вымытое стекло бесшумно расшибало воздух, шоссе вставало в небо и опадало, наискось, назад летели гладкие сплошные полосы травы по бокам канав. Всё поля, ноля, плавно волнуясь, точно вздыхая, струились по обе стороны, стлались вширь светлыми зеленоватыми хлебами под неоглядной прозрачной полусферой, напоенной золотистым сиянием, чистой голубизной. Низко над дымкой горизонта висело солнце, крупное, кипящее легкими пламенами. Ни гор, ни лесов, простор и сиянье, темные гребешки далеких деревень, да что там еще белеет справа, километров за тридцать, плавится на солнце? Полустанок, шахта? Или мерещится? По бокам пролетало село, пруд, церковь; перед сараем фордзон, бочки, конные грабли; сигналил — курица, пригнув шею, стремглав удирала с дороги; слева редкоствольный, ослепительный березняк, косые кресты, опять наотмашь незаслоненные пространства — бледно-желтое, искрящееся, голубое. Упруго потряхивало, обдувало; машина слушалась мысли; поглядывал по сторонам, щурясь от света и невольной улыбки. Ничего, ничего. Недурно. Вот она, широта. Пожалуй, не хуже высоты. Нет, не хуже.
Останавливал машину на проселке, подходил ко ржи, стоявшей мягким, ровным строем, по плечи. Рожь доцветала, вровень с глазами уходила вдаль ее зыбкая, курящаяся призрачным дымком, нагретая солнцем поверхность, прямо из нее вылезало темное снизу грозовое облако, белый клуб на густой, до мрачности, небесной синеве. Пронзительно, как звон в ушах, частили кузнечики, пахло спелой травой, хлебной теплынью. Он раздвигал стройные уступчивые стебли, просовывал голову в этот тенистый мир, где на влажной комковатой земле стояла в струнку зеленосоломенная чаща, считал поблизости васильки, радуясь, что не много. Рядом лоспились под ветерком зеленоватые овсы. Калманов знал, какой бригады этот участок и что тут творилось два месяца назад на черной пашне, когда угрожало рогожное знамя. Вон там, на перекрестке дорог, он костил полевода Туркина за беспорядок с доставкой посевного материала, и тот вопил рыдающе: «А рук у меня две? Две. А ног у меня две? Две», Срывал длинный колос, обвешанный пыльным цветом, задумчиво разминал пальцами его еще пустое тельце, оглядывался, бормотал: неплохо, неплохо, — сам не зная, про что: про то ли, что хороша рожь, или, что слабый предгрозовой ветер наносит такой запах придорожных цветов и полевой свободы.
В начале сентября скирдовали в Онучине, в Ворошиловском колхозе. Всю вторую половину лета захватила непогода, косые, хмурые дожди. С уборкой в этом колхозе завязло, грозили большие потери. И вот выдались подряд ясные, сухие деньки. Калманов приехал в Онучино, поднял весь народ возить, класть скирды и сам вместе с другими трое суток не спал. Носился по полям, расставлял бригады, улаживал с питанием, с фонарями, со всякой путающей мелочишкой, ночью словил в овраге подводу с пьяными прогульщиками. На четвертый день, к вечеру, он пришел в комнату, где жили на холостом положении переброшенные в Онучино работники. Все было закончено, ни одного гектара в валках и копнах. Его пробирал озноб бессонницы и еще не погасшего возбуждения, сновали бесформенные, диковатые мысли. Сел на кровать, стянул сапог, с другим не сладил, повалился на подушку.
Проспал он часов двадцать. Разбудила Маруся Несторчук, приехала проводить женское собрание. Калманов вскочил с кровати, испуганно озираясь. На том поле еще двадцать семь гектаров. И греча. В раскрытое окошко лилось послеобеденное солнце, на подоконниках, на полу лежали его жаркие вытянутые пятна, ясный до предела, до хрупкости, виднелся в окне травянистый проулок в длинных тенях, избы напротив, ярко-красная и вырезная рябина. На столе блестел нож, воткнутый в полукаравай хлеба, стояли немытые, в чаинках, стаканы. Маруся Несторчук, низенькая, в голубой косынке, глядела на него, взлохмаченного и смятого, смеялась. Он вспомнил все. Его вдруг обуяло распирающее мальчишеское счастье, ощущение варварского голода, здоровья всей жизни. Как был, в одном сапоге, подскочил к Марусе, обхватил ее, закружил по комнате.
— В прекра-а-сной Одессе. В прекра-а-асной Одессе...
Она сердито отбивалась пыхтя.
— Вот дурной, скаженный, чтоб тебя.
Эту весну и лето Кирюшка работал в полевой бригаде один от своего двора, жену определили дояркой к общему стаду, отец оставался присматривать за домом, за детьми, да он больше и не годился ни на что, еле двигал ноги.
Отлынивать от дела теперь стало труднее, пошли всякие строгости. Фатеев, новый колхозный председатель, завел крутые порядки. Чуть кто не вышел в поле раз, другой, пожалуйте штраф трудодней на пяток. Одного из ихней бригады, Федьку Рытого, который прогуливал через два дня на третий, сначала отчитывали на всех собраниях до смертного поту, а там и вовсе исключили. И с самыми этими трудоднями началась серьезная арифметика. На всякую работу назначили постоянную расценку с мелкой дробью, и, если не выполнил урока, сбавляли, или получался круглый нуль. Прямо даже удивительно, как быстро все в этом разобрались, самые нехитрые бабенки. Он сам первое время путался, но потом вое постиг и ругался с бригадиром за каждую сотую, помнил, что прошедшую осень под конец получили-то все-таки по записанной выработке. Бригадиры тоже теперь тянулись, били, черти, на премию, и, видно, их тоже не гладили за промашки. По утрам скликали на биржу чуть свет, находились около своих безотлучно, раскуривать много нельзя было. Распускали по домам затемно.
С весны народу в колхозе опять прибыло, бригады разбили пополам, он теперь был в четвертой. Приставили к ним Сердюкова, партийного, который раньше сидел в еповской лавке, этот тоже за всем досматривал и сам работал. С середины лета замельтешил возле них молодой раскидистый паренек, кажется из Егоровской коммуны, обо веем выспрашивал, придирался, его все звали Отсек. И еще раньше его повадился к ним из города видный из себя человек, в желтой хорошей кожаной куртке, мордастый, веселый, с густыми черными бровями. Этого звали начальник Карманов. В первый раз Кирюшка увидал его на пахоте, человек в желтой куртке шагал вдоль борозд, часто приседал и тыкал в борозду карандашиком. Подивился: зачем это он? И как раз проходил за плугом близко, когда тот выговаривал Попкову, бригадиру, мелко, дескать, пашут. Попков догнал его, велел забирать глубже. Это он, вначит, вымерял карандашом-то, подумал Кирюшка и посмеялся: меряй, не меряй, за каждым не усмотришь.