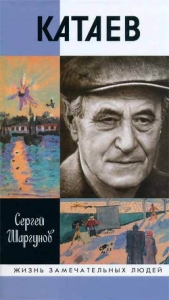Сердце: Повести и рассказы
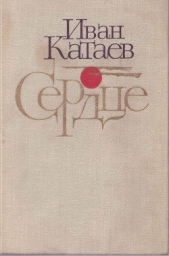
Сердце: Повести и рассказы читать книгу онлайн
Среди писателей конца 20 — 30-х годов отчетливо слышится взволнованный своеобразный голос Ивана Ивановича Катаева. Впервые он привлек к себе внимание читателей повестью «Сердце», написанной в 1927 году. За те 10 лет, которые И. Катаев работал в литературе, он создал повести, рассказы и очерки, многие из которых вошли в эту книгу.
В произведениях И. Катаева отразились важнейшие повороты в жизни страны, события, участником и свидетелем которых он был. Герои И. Катаева — люди бурной поры становления нашего общества, и вместе с тем творчество И. Катаева по-настоящему современно: мастерство большого художника, широта культуры, богатство языка, острота поднятых писателем нравственных проблем близки и нужны сегодняшнему читателю.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
И на самом-то деле, сколько ни крутилось около них разных этих доглядчиков, как ни подтягивали, а извергнуться, выгадать своё всегда можно было. На работу, конечно, выходишь, что скажут — исполняешь, даже быстроту, усердие можно показать, чтоб не шпыняли. Зато — там не дожмешь, здесь не дотянешь, тут огрех, или просев, или косячок не обкошенный, — глядишь, и не так измаялся. Своя-то спина всего дороже, да он и берег себя, здоровьем небогат, кость слабая, по ночам вон как грудь спирает, треплет кашель. Некоторые у них записались ударниками, были такие, что действительно старались, работали во всю силу, им везде был почет и первое место. Ну, он и без почета проживет, быть бы сыту. И все равно ему уваженья ни от кого нипочем не дождаться. Смотрят на него все, как на дурачка, в солидный разговор не принимают, всякий сопливый мальчонка и тот дразнит Битым-поротым, приросла кличка. Да чего там, хоть бы раз кто, раз в жизни повеличал его с отчеством, все Кирюшка и Кирюшка. Не глядят, что ему под сорок и давно сам хозяин, и дети, вот только борода почему-то не растет. Ладно, уж он как-нибудь так, сторонкой. Отдюжил свое, и домой, на печку. В трудкнижку пишут, лодырем не ругают, не грозятся, и хорошо. А уваженья он себе дома стребует, со своих, с семейных.
Только и дома у пего получалось с недавних пор как-то нескладно.
Старшая дочка Катя подросла, ей шел двенадцатый год, сперва ходила в простую школу, потом отдали в шекаэм{Шекаэм (ШКМ) — школа крестьянской молодежи.}. Мать ее очень берегла, к тяжелой работе не подпускала, водила чистенько. Выгадывала из последнего, обшивала, ботинки на ней всегда были исправные, валеночки аккуратные, в волосах зеленый гребень дужкой. В школе девчонку обучили всякой вежливости, рукой не сморкайся, ногти стриги, вдруг начала звать отца с матерью папа и мама, утром и вечером терла зубы щеточкой, прямо на деревенскую не похожа. По вечерам где-то бегает, тоже, говорит, собрания у них, или сидит, жгет керосин, читает допоздна книжки, и не учебные, а так, какие-то пустяки. Чертит в тетрадке разные фигуры, дома в десять этажей, аэропланы, тоненьким голоском поет песню «Шла дивизия вперед». Серьезная такая, словно и не ребенок.
Последнее время повернулось так, что забрала она и мать под свое начало. Та ей во всем потворствует, прислушивается к ней, как к большой. Сдружились они, мать с дочерью, чисто равные. Поужинают, уберутся, младшую девочку уложат, и вот сидят рядком: Антонина ткет, одежду чинит, Катя ей читает из книжки, объясняет про что-нибудь. Разговоры у них, разговоры, о чем только не говорят. О Москве, о поездах, о львах и тиграх, о заграничных буржуях. Чаще-то Катя рассказывает, а мать слушает, но иной раз и расспорятся. Катя доказывает — будут все жить хорошо, Антонина ей — чтой-то покуда не видать; больше об этом. Так и сидят часами, и говорят, и шепчутся о чем-то, пересмеиваются, чудно на них смотреть.
Он сам в эти разговоры не мешался, не охотник слова тратить попусту, да и не речист. С женой почти что всю жизнь прожили молча, так, перекинешься когда по хозяйству, о деньгах, или уж какой-нибудь важный случай. В избе всегда было тихо, и к этому привык. А тут выходило, что в доме настраиваются какие-то другие порядки, и он в них ни при чем, не замечают его. Как-то попробовал вступить в ихнюю беседу, они промолчали, будто не слышат, и опять шушукаются между собой. Что ж ему, со стариком глухим говорить, что ли? Обидно. И вся эта новая манера ему не нравилась. Детей нуяшо в строгости содержать, в строгости. Баловство какое.
Один раз, ложась спать, сказал жене:
— Тонь, а Тонь. Ты этого... Ты бы оставила это с Катюшкой.
— Чегой-то мне оставлять?
— Разговоры у вас. Какой у тебя с пей может быть разговор? Потакаешь очень, да. И так она стала на себя не похожа.
Антонина только усмехнулась.
— Чего ты в этом понимаешь-то? Молчи уж. — И отворотилась.
С женой у них с самой зимы что-то пошло не так. Не очень приметно, а все-таки. Не то чтобы Антонина перестала его любить, привечать. Нет, она привечала его, и жалела, и ходила за ним по-прежнему. Столько лет они прожили тесно, в согласии, оба были смирные, за все супружество он и побил-то ее разов пять, не более. И никогда он особенно в доме не верховодил, но и она не возвышалась, так все само собой шло. Теперь же, как послали Антонину на скотный двор, она будто стала от него отходить, особиться. Ей там шел постоянный трудодень, удой получался хороший, и с начала года у нее в книжке набежало даже побольше, чем у него. Об этом ничего между ними не было сказано, а кое в чем сквозило. Вдруг она, не спросившись, купила Катюшке калоши. Потом этот самый гребень зеленый. Ну, гребень — бог с ним, калоши-то в одиннадцать лет к чему? Женихов приманивать? И главное, мужу об этом хоть бы словечко. Деньги и раньше, какие были, находились у ней, но если что покупать, всегда советовалась, вместе примерялись так и этак. Что же это такое начинается? Какую-то вольность она осознала. И то же самое, стала на собрания ходить к своим скотницам, дела у нее, видишь ли, завелись. Правда, за домом, за хозяйством она присхматривала, все успевала, — да какое у них хозяйство, три курицы с петухом, и то какие-то длинноногие, бесхвостые, не как у людей. А все-таки видел он, видел, удаляется Антонина от дома, от мужа, только и интересу у нее, что к дочери.
Кирюшка пока молчал об этом, не мог еще все как следует охватить умом, перевести на простые слова. Однако чувствовал: обидно. Обидно ему это, мужику, хозяину, главному в семействе.
Раз он вернулся домой порядочно выпимши, угостил Горбунов Николай, единственный верный дружок и кум. Больше никому, ни единой-то душеньке до него и дела пет, эха-ха. Вошел в избу, на столе чашки, ложки, отец сидит, жует, доедает что-то. Отужинали, не дождались его, Так, значит.
Жена посмотрела на него зорко, видно приметила сразу.
— Ужинать будешь?
Хы, очень теперь надо, объедки-то.
— Не буду.
Опять спокойно с Катькой заговорили о чем-то. Сел на сундук. Те вдвоем разглядывали книжку.
— Випоград, — прочитала Катя. — Мам, ты когда-нибудь ела его, виноград?
— Откуда ж мне, дочка. И не видала ни в жизнь.
— А у той, у старой барыни, вот которая за оврагом жила?
— Так разве же нас, Катенька, пускали туда. Может, она и ела, мы не видели. Наверное даже ела, у них всего много было.
— А какой он, сладкий?
— Должно, сладкий, вроде крыжовника. Видишь, ягоды какие полненькие.
Катя вздохнула.
— Что-то захотелось мне винограду. Хоть бы попробовать, какой он. Вот поеду в Москву, обязательно куплю. И тебе привезу, и Машечке.
Кирюшка злобно засмеялся.
— Придумала тоже, тьфу! Ви-но-гра-ду ей... Умна очень стала, — вдруг крикнул он и встал, покачиваясь, с сундука. — Разбаловала мать-то. Винограду ей теперь подавай, пшь ты! А еще чего не надо ли? А д-дулю не хочешь?
И он состроил ей из пальцев дулю.
— Господи! — обомлела Антонина. — Да ты что это? Ты как же это можешь ребенка обижать? Да какую ты праву имеешь? Ступай проспись, дурень ты, пьянчужка несчастная.
Катя поднялась, бледная.
— Стыдно водку пить, — сказала она громко. — Водку пить нельзя. Нам Софья Илышишна говорила, это вредно и нехорошо. И велела всем отцам сказать, чтобы не пили. И я тебе велю, ты больше не пей никогда.
— Велишь? — Кирюшка захрипел и заплакал от злости. — Учит она. Меня учит. Ну, я с тобой займусь сейчас.
Он пошел на нее, вытянув перед собой руки, но остановился, качнулся вперед. Его вырвало.
...Все, все переменилось в одну неделю.
Под самый Фролов день это было, в обед, прибежал горбуновский парнишка, лихо прокричал с порога затверженное:
— Приехал начальник Карманов, сейчас будет раздавать людям скотину. Всем, у кого нету. Наказывали в ту же минуту явиться.
— Стой, погоди.
Но его беловолосая голова уже мелькнула мимо окошка.
В конторе было полно народу, за столом все правление и Карманов тут же. Он смешно сощурился, спросил: