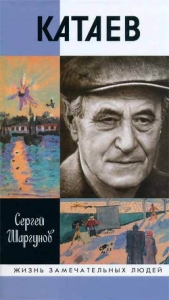Сердце: Повести и рассказы
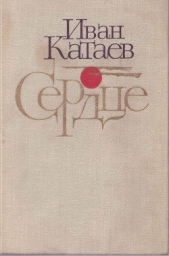
Сердце: Повести и рассказы читать книгу онлайн
Среди писателей конца 20 — 30-х годов отчетливо слышится взволнованный своеобразный голос Ивана Ивановича Катаева. Впервые он привлек к себе внимание читателей повестью «Сердце», написанной в 1927 году. За те 10 лет, которые И. Катаев работал в литературе, он создал повести, рассказы и очерки, многие из которых вошли в эту книгу.
В произведениях И. Катаева отразились важнейшие повороты в жизни страны, события, участником и свидетелем которых он был. Герои И. Катаева — люди бурной поры становления нашего общества, и вместе с тем творчество И. Катаева по-настоящему современно: мастерство большого художника, широта культуры, богатство языка, острота поднятых писателем нравственных проблем близки и нужны сегодняшнему читателю.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
— Глянь-ка, битый-поротый с гармонью!
Он этого и ожидал, обрадовался, думал, сейчас начнут дразнить, смеяться. Но все молчали, глядели в сторону. Он потоптался и пошел от них, свернул к Выселкам. Навстречу, из прогона, выкатились все тамошние, человек пятнадцать, с песней. Впереди Ганька, с новым баяном, пьянее всех. Они остановились и смотрели на него, пошатываясь; поджидали. Он несмело приблизился. Ганька отделился от толпы, подошел, сказал, качаясь с каблуков на носки:
— Отдай гармонь. М-моя. Я тебе только до праздника дал.
Он протянул руку, сорвал у него с плеча лямку и дернул к себе. Кирюшка, вопя, уцепился за раму. Гармонь растянулась зеленой трубой и лопнула, Ганька с размаху сел в грязь, зарычал матерщиной. Все загоготали. Из толпы вывернулся Пашка Беззубый, подскочил, приплясывая, к Кирюшке, сбил с него картуз, нахлобучил ему на голову разорванную гармонь до самых плеч. Захохотали еще громче, и кто-то ткнул его кулаком в живот, потом еще. Он повернулся и побежал, срывая с головы гармонь, поскользнулся, упал. Мимо него валили, горланя, со свистом, с гоготом; ушли.
На войну его не взяли по груди. Опять вдалеке, стороной отшумели проводы, песни, бабий плач. Становилось все тише, малолюдней, как в зимние сумерки, когда только и слышно, что звякнет цепь о ведро у колодца да каркнет ворона, обсыпав с ветки сухой снежок. Но убавилось женихов, и он женился, очень быстро и незаметно. Высватали Перевезенцеву Антонину, вдовью дочь. Жили они еще бедней ихнего, но как-то не по достатку светло и чисто. Антонина засиделась, ей было года на четыре побольше, уже начинала рядиться в темное, пугливая, сухонькая, мастерица в тканье и вышивке. Водки не было, самогонка не задалась, шибала какой-то химией, гости посидели, сколько надо, чтоб не обидеть, разошлись. Они улеглись за занавеской, он сначала робел, потом ничего, стал гладить и тискать, сделалось тепло, умильно, как никогда в жизни. Она поддавалась, что-то шептала, прижимая его худыми руками, от этого было еще горячей, он смелый, он как все, ему только взяться. Вдруг она завозилась, оттолкнула его, села, принялась шарить по подушкам.
— Ты что?
— Жиляются, — жалобно шепнула она.
— Так это блохи, ничего.
— Непривычная я, у нас нету.
Она легла, но опять заерзала, зачесалась, вскочила. Засветили огонь, по холстине, по подушкам густо разбегались темные пятнышки. Вытрясли, перестелили на сундук. Захныкала сестренка, зашуршала мать на печи, слезла, выходила в сени, хлопая дверью; ждали. Стихло. Молодая снова начала ворочаться, чесаться, потом, отшвырнув одеяло, соскочила с сундука, села на табуретку, всхлипывая. Кирюшка ужаснулся: что теперь делать, утешать?
— Ты не плачь, глупенькая, клоп же, он безвредный. Вот ты какая. Ты об них не думай, будто и нету, я вот ничего не слышу.
Она плакала все пуще, дрожа от холода; ходуном ходили острые плечи. Так проканителился с ней до рассвета, горло стискивало от досады, стыда и жалости. Целый день она на него не смотрела, отводила глаза в сторону.
Потом привыкла.
Под самый конец суматошного дождливого лета, когда стали возвращаться солдаты, злые вое, как бешеные, поднялись громить старую барыню. Кирюшка бегал со всеми по длинным комнатам, оскользаясь на гладком полу, хотел тоже чем-нибудь разжиться, но его всюду отпихивали локтями, лягали сапогом. В уголку, на белом каменном столике, увидал красивую лампу, с голыми мальчишками, на поднятых ручках они держали горелку. Схватил, должно серебряная, побежал. На крыльце остановил старик Арефьев, отнял, здоровенный черт, а когда заспорил, дал по шее, так что кубарем слетел со ступенек. Дом подожгли, потом разнесли в саду усыпальницу старого князя, искали золото. Разбили каменный гроб, вытряхнули скелет, ничего не нашли. Скелет, однако, похоронили у церкви, заставили батюшку сызнова отпевать.
Урусовские земли вскоре поделили, у них прибавилось по полдесятины на душу. Тут вздохнули, раньше было тесно, сохи не повернуть на полосе. Года через полтора взбунтовались против новой власти мужики смежной с ними волости, обиделись на разверстку, заодно хотели отхватить у них княжеской землицы. Близко был Деникин, за полями трясли небо пушки, по ночам вставали розовые зарева. Бедный комитет{Бедный комитет — имеется в виду комитет бедноты.} собрал человек сто, повел разгонять бунт, Кирюшка увязался со всеми, жалко было земли. Сошлись с теми ясным вечерком, на закате, у гумен, кинулись друг на друга с вилами, но стало страшно, остановились, побросали вилы, пошли на кулаки. Ему набили под глазом, отшибли руку, потом какой-то чернобородый ударил под вздох, он свалился, спасибо Колька Горбунов, соседский, вытянул за ноги из свалки, насилу отлили.
Отошли все войны, жизнь опять поползла ровно, длинно, дремотно. Пахал, сеял тощее зерно, убирался, залезал на печку прогревать спину. Зима, весна, лето. Дождик, жара, опять дождик, значит грязь, по селу не пройдешь, утопнешь. На собрания не ходил, ну их, все одно и то же долбят, толку мало. Интересней было, что вот Губастов Арнстарх Иваныч, мясник, может съесть зараз тридцать пять штук яиц и жрет сырое мясо, поднял за передок груженую телегу весом в сорок пудов. А в Тепло-Огареве, сказывают, родился мальчонка с усами и бородой, кричит басом. Над этим задумывался. И все хотелось есть, баранинки бы с белым жирком, обсосать бы мосол; сладко. Начал выпивать, понравилось: легко, туманно, ничего не надо. Но денег почти не бывало, а заводились когда, жена отбирала дочиста.
С землей было свободно, однако не управлялись с ней, сдали третью часть в аренду Захарову, барышнику. Стали откладывать на корову, дети без молока всё болели, мерли один за другим; только Захаров всегда норовил затянуть с арендными, выдавал по рублю, по два, уж как только очень пристанешь. Расходились по мелочи. Дальше подошло хуже. Выдался такой день: лошадь пала на поле, вернулся домой, трясясь от окаянной беды, мать лежит на лавке, скончалась, а старший парнишка чудно так поскрипывает за занавеской, все лицо багровое, раздулось, не узнать. У жены в сундуке одна бумажонка, три рубля. Куда ж теперь? Сунулся к Захарову, не дал. Пошел в сельков{Сельков — сельский комитет взаимопомощи.}, выдали пятерку, а какой с нее прок? Взял в госспирте полбутылки, вытянул сразу, побрел домой. В избу зайти страшно. Сел на обочине шоссе, свесив ноги в канаву, качнулся, заплакал.
Срядились с Захаровым на исполье. Допахал на его конях, кони сильные, прямо слоны, засеял чистосортным, обменным, уродилось хорошо, не нарадовался. Обомолотили на захаровском барабане, подводит к закрому, повел рукой, веселый:
— Забирай, Кирюха, тут все твое, таскать не перетаскаешь. Со мной, брат, не завянешь, года через два богачом тебе быть.
Кирюшка взял зерно в горстку, а там одна мелочь, битое, сор. Копнул еще, опять дребедень, озадки.
— Ведь это ж... Это же не мое, Иван Игнатыч.
— Как не твое? А чье же, теткино? Забирай, забирай.
Молил, стыдил, а бог-то? Грозил, кланялся в ноги, под конец пристращал судом.
— Судись, судись, может к рожеству высудишь. А жрать до тех пор что будешь? И этого не дам.
Кинулся к другому закрому, схватил мешок, прыгающими руками стал насыпать, с совка лилось чистое, полное зерно.
— Это ты что? — тихо удивился Захаров.
Рванул за химку, выбросил из амбара, наподдав коленом. Кирюшка растянулся плашмя. Вскочил, полез, вытаращив глаза, в драку. Захаров легко стряхнул его, неспешно сунул большим кулаком в зубы, кликнул работников. Те нахлестали по шее, напоказ, не больно, вытолкнули за ворота.
Долго раздумывали с женой, в совет идти, судиться? Побоялись. А на тот год как же, без лошади? Просил у Ивана Игнатыча прощенья, забрал озадки.
Но к концу зимы как-то все вдруг перевернулось. Еще со святок начали сбивать народ в большой колхоз, по селу пошел шум, галдеж, споры. В одну ночь перед масленой забрали самых богатых хозяев, куда-то угнали, и Иван Игнатыча с ними, повыселяли из домов семьи. Кирюшка ходил ошалелый, как в тумане, дивился, радостно причмокивал. Завернул на захаровский двор. Ворота настежь, пусто. У крыльца стояла подвода, нагруженная домашним добром. Зашел в избу, там хозяйка собирала ребятишек. Сидя спиной к нему на лавке, повязывала младшенького сынка белым платочком. Кирюшка постоял у притолоки.