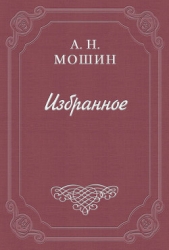Вишневый омут. Хлеб - имя существительное

Вишневый омут. Хлеб - имя существительное читать книгу онлайн
В книгу выдающегося русского писателя, лауреата Государственных премий, Героя Социалистического Труда Михаила Николаевича Алексеева вошли роман "Вишневый омут" и повесть "Хлеб - имя существительное". Это - своеобразная художественная летопись судеб русского крестьянства на протяжении целого столетия: 1870-1970-е годы. Драматические судьбы героев переплетаются с социально-политическими потрясениями эпохи: Первой мировой войной, революцией, коллективизацией, Великой Отечественной, возрождением страны в послевоенный период... Не могут не тронуть душу читателя прекрасные женские образы - Фрося-вишенка из "Вишневого омута" и Журавушка из повести "Хлеб- имя существительное". Эти произведения неоднократно экранизировались и пользовались заслуженным успехом у зрителей.
Содержание:
Вишневый омут
Хлеб - имя существительное
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Самонька чуть не плачет.
– Пошла ты, тетенька, к дьяволу со своим сторожем!
– А я, милый, сама так думаю: бросьте вы с моим стариком это самое...
Самонька – в тупике: попробуй что-либо втолковать этой глупой старухе!
Вдруг его осеняет.
– Тетенька, вдов-то много, поди, в селе?
Настасья хитренько глядит на племянника, вновь усевшегося против нее за столом.
– Ты что же, сынок, ай не женатый?
– Не женатый, тетенька. Не успел. Война помешала... Так как же... есть такая, помоложе чтоб?
– Есть. Как не быть? Много их опосля войны, сынок, осталось. И детных, и бездетных...
– Ну, ну!
– Ты, милый, сходил бы к Журавушке. Рада-радешенька будет.
– А она что, того?..
– Молодая и личиком сходственная. Всех, сказывают, принимает, никого не обижает.
Самонька нетерпеливо ерзает на лавке, новые ремни на нем беспокойно скрипят, уши вспыхивают, как два ночных фонаря.
– Не прогонит, говоришь?
– Нет, нет. Поди, милый. Рада, говорю, будет.
– А живет-то она где?
– Да вот сразу же за мостом. Первый дом справа.
Самонька стремительно встает, привычным движением рук распрямляет под ремнем складки, смотрится в зеркало, рядом со своим видит отражение радиоприемника, притулившегося в углу, на божнице, в добром соседстве с темными ликами святых. Не оглядываясь, спрашивает:
– Почему приемник-то молчит, тетенька?
– Корму, вишь, нету. В воскресенье старик поедет в район, купит.
– Чего купит?
– Корму.
– Питания, что ли? Батареи?
– Ну да.
Оглядев себя раз и два в зеркале, Самонька собирается уходить. У двери задерживается.
– А как же ее зовут, Журавушку вашу?
– Так и зовут – Журавушка.
– Что же, у нее имени нет?
– Как же, есть. Марфушка. Да назвал ее покойный муж Журавушкой – любил вишь, очень, – так и осталась...
– Ну, я пошел! – с легкой от нетерпения дрожью в голосе сказал Самонька и вышел на улицу.
Вернулся перед рассветом. Не включая лампы, разделся в темноте, быстро улегся на отданной ему хозяйской кровати.
Тетка Настасья лежала на печи. Проснувшись раньше гостя, она увидела на лице спящего, под правым его глазом, преогромный синяк – он жутко лиловел в предрассветных сумерках.
Старуха хихикнула, быстро спустилась на пол и загремела у печки ухватом.
Самонька приоткрыл подбитый глаз и украдкой глянул на хозяйку – к великому своему конфузу, узрел в уголках сморщенных ее губ ехидную ухмылку.
«Ах ты, старая ведьма! – гневно подумал он, пряча под одеялом лицо. – Постой, я те покажу Журавушку! Я не позволю смеяться надо мной!»
На рассвете вернулся дед Капля.
Самонька и Настасья завтракали. Воспылавший было жаждой отмщения, гость вел себя сейчас более чем тихо и скромно. Очевидно, он был благодарен тетке за то, что у нее хватило душевного такта не спрашивать у племянника, где тот приобрел дулю под правым глазом.
Однако Настасья не успела предупредить Каплю, чтоб и он поступил точно таким же образом, и роковой для Самоньки вопрос все же был ему задан:
– Кто это тебе, товарищ командир, кхе... кхе... поднес?
Старый, стреляный солдат, Капля изо всех сил старался соблюсти субординацию и про себя очень огорчился, что у него вырвалось это обидное для «высокого гостя» словцо «поднес». Как истинный вояка, поспешил на выручку попавшему в беду товарищу, заодно ликвидируя и свою промашку:
– Не в яму ль какую угодил, в старый погреб?.. Их с тридцатых годов вон сколько осталось... как после бомбежки. Сколько одного скота покалечено!..
– Об косяк, в темноте, – чуть внятно пробормотал Самонька.
– Оно и так бывает. Я прошлым летом тоже вот, как и ты, звезданулся... чуть было совсем глаза не лишился... А ты, товарищ командир, осторожней будь... Они, косяки эти, почитай, у всех дверей имеются. Так что же мы... можа, выпьем маненько? А? Достань, старая, соленого огурчика. В городе, значит, Москве? Так, так... Ну и что?.. Много там народу?
– Много, дедушка, – живо отозвался Самонька, радуясь, что разговор перекинулся на другое, пошел в сторону от нежелательной для него темы. – Миллионов шесть будет.
– Фю-у-у! – удивленно свистнул Капля. – И что же, все они там важный объект охраняют?
– Зачем же все! – снисходительно улыбнулся Самонька. – Кто на заводе, кто в учреждении – кто где. Все работают, все служат.
– Все, значит? Это хорошо, коли все. Ну а ты насовсем к нам али как?
– Нет, дедушка, на побывку. Погостить. В отпуске я.
– В отпуске? А это что ж такое – отпуск?
– А как же – положено.
– Ах, вон оно как. Положено, стало быть. А мы, знать, при другом режиме живем. Нам не положено.
Самонька смущенно молчал.
Дед Капля и тут пошел на выручку.
– Ну, ну, сейчас, знать, нельзя. Работа у нас с вами разная. Вот будет поболе машин, тогда... Не желаешь, значит, в родном селе оставаться? Плохо. А то оставайся, передам тебе свою орудью, – хозяин показал на стену, где висело его старенькое ружье, – а сам на покой. Опыт у тебя есть. Важный объект в Москве охраняешь. А мой объект наиважнейший. Хлеб! Что могет быть важнее хлеба?! Хлеб – имя существительное! – Дед Капля вымолвил эти слова особенно торжественно и по-ораторски воздел руку кверху, приподнял за столом и стал вдруг как будто выше ростом. – Потому как все мы существуем, поскольку едим хлеб насущный! – От первой выпитой чарки лицо его, красное с мороза, покраснело еще больше, ликующие глазки сияли победоносно, и он повторил с хрипотцой в голосе: – Хлеб – имя существительное, а весь остальной пропродукт – прилагательное. Так-то, товарищ командир!
Самонька, как известно, и в школьные-то свои годы не шибко разбирался в существительных и прилагательных, тем не менее в словах Капли ему почудился обидный намек. Настроение его явно шло на убыль. Не желая вступать в рискованный диспут со стариками, он нашел предлог и быстро выбежал на улицу.
Но именно тут, на улице, честолюбивым Самонькиным мечтам был нанесен окончательный удар. Не сделав и десяти шагов от дома, он увидел человека в форме артиллерийского полковника, которому пришлось отдать приветствие со смертельным страхом быть задержанным и допрошенным относительно синяка под глазом, и сделать это на глазах любопытствующих женщин, среди которых, к немалой своей досаде, Самонька вмиг приметил Журавушку.
В течение того невеселого дня Самонька сделал еще одно поразительное открытие: оказывается, его родное село при желании могло бы насчитать добрый десяток офицеров, перед званиями которых Самонькин чин выглядел бы весьма и весьма скромно.
На третий день, наскоро попрощавшись с теткой Настасьей (деда дома не было: находился на охране своего «объекта»), Самонька быстрым, гвардейским шагом направился прямо на станцию. Длинные, оттопыренные уши его, поддерживающие форменную фуражку, полыхали таким жарким огнем, что от них можно было бы прикурить.
Почтмейстер
Звали его Зулин Николай Евсеевич. Фамилия, как видим, короткая, но землякам, неукротимым любителям придумывать прозвища и переделывать на свой лад подлинные имена, похоже, и она показалась длинноватой, и они ее чуток подрубили. Получилось – Зуля. Три слова – Николай Евсеевич Зулин – удобно поместились в одном этом. Теперь его так звал в Выселках старый и малый.
«Сбегай-ка к Зуле за пилой», – приказывает отец сыну. «Где пропадал?» – спросит сердитая жена. «У Зули», – охотно сообщит муж, так как знает, что самим этим ответом начисто исключается всякая возможность заподозрить его, мужа, в каких бы то ни было грешных делах. «Кто это тебе сказал?» – недоверчиво спросят собеседника, поведавшего какую-нибудь новость, в которую нелегко поверить. «Зуля сказывал», – услышат в ответ. Услышат такое и успокоятся: усомниться в столь достоверном источнике никто не решится.
Таков Зуля.
После войны у Зули заместо двух осталась одна рука, к тому ж левая, да еще жена с четырьмя ребятишками в придачу. До войны Зуля плотничал и столярничал, при надобности мог заменить и бондаря. Главное же – столяр, ну, лучшего на селе нельзя было сыскать. Зуля это и сам знал, а потому и не захотел оставлять своего ремесла и тогда, когда война так неосмотрительно обошлась с правой его рукой. Если же прибавить, что Зуля, помимо всего прочего, был подвержен еще и охотничьей страстишке, то совсем уж нетрудно понять, каково человеку остаться без руки. От одного заячьего или там лисьего следа пальцы левой начинают знобко вздрагивать, а комелек правой – неудержимо биться пол рубахой, как крыло подстреленной птицы.