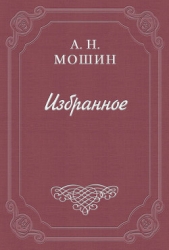Вишневый омут. Хлеб - имя существительное

Вишневый омут. Хлеб - имя существительное читать книгу онлайн
В книгу выдающегося русского писателя, лауреата Государственных премий, Героя Социалистического Труда Михаила Николаевича Алексеева вошли роман "Вишневый омут" и повесть "Хлеб - имя существительное". Это - своеобразная художественная летопись судеб русского крестьянства на протяжении целого столетия: 1870-1970-е годы. Драматические судьбы героев переплетаются с социально-политическими потрясениями эпохи: Первой мировой войной, революцией, коллективизацией, Великой Отечественной, возрождением страны в послевоенный период... Не могут не тронуть душу читателя прекрасные женские образы - Фрося-вишенка из "Вишневого омута" и Журавушка из повести "Хлеб- имя существительное". Эти произведения неоднократно экранизировались и пользовались заслуженным успехом у зрителей.
Содержание:
Вишневый омут
Хлеб - имя существительное
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Была пора цветения. Шестидесятую, кажется, уж весну встречает здесь Михаил Аверьянович.
Внешне сад был прежним. Яблони и груши цвели вроде бы так же дружно, как год, и два, и три года тому назад, а садовник почему-то хмурится, он что-то видит неладное, ему что-то не нравится.
Что же?
Свой обход он начал с кубышки — она была его давней слабостью, к тому ж кубышка-дерево самое плодовитое. Это её сочными и вкусными яблоками девчата и подростки утоляют на поле в самые знойные августовские дни одновременно и жажду и голод. Кубышка, как известно, нежна, капризна и любит полив. Теперь её никто не поливал: все наличные людские силы артели были заняты в поле, а Илья Спиридонович, довольно-таки одряхлевший старикашка, не мог справиться с двумя большими садами, ему бы впору спасти пасеку. Кубышка цвела буйно, но в её цветках не было прежней ядрёности и свежести, запах их был не таким плотным, как раньше, и сама яблоня не улыбалась так солнечно, как бывало, гордясь своей силой, а словно бы присмирела, призадумалась; её жадным корням явно не хватало дополнительной влаги, а ветвям — ласковой человеческой руки, которая бы всё время холила их.
Ещё горше было глядеть на медовку. Она и прежде часто хворала, а сейчас совсем захирела. Цвела вполсилы. Многие сучки на ней засохли и, мёртвые, торчали в разные стороны, как немой упрёк позабывшим про них, про больную их мать людям. Цветки на медовке были алы, но то был румянец безнадёжно больного, каким бывает он на щеках чахоточного человека.
Анисовки выглядели молодцами, хотя и среди их сучьев можно было заметить несколько сухих, не снятых вовремя веток, напоминающих редкую седину в голове человека, к которому незаметно подкрадывается старость. Другой бы и не увидел их, прошёл бы мимо, удовлетворённый белой кипенью цветков, сквозь которую не скоро разглядишь тонюсенький умерший сучочек, но от глаза Михаила Аверьяновича ничто не могло укрыться: в этом саду ему было ведомо и знакомо всё-всё, до малейшей царапинки на каждом, деревце, на каждой ветке. Он потянулся к ближайшему сухому сучку, осторожно, чтобы не повредить живому, сломал его и долго с хрустом мял в руке. Ноги его совсем ослабли, и он присел на землю. Долго и трудно дышал. Потом опёрся о руку свата, приподнялся, и они поковыляли дальше.
Приблизились к грушам. Они цвели хорошо. Правда, что-то неладное стряслось и с ними. В их внешнем обличье не было прежней гвардейской выправки, сучья не так уж плотно прижимались к материнскому стволу, кое-где они оттопырились, обвисли, точно обессилевшие, пораненные руки. Самое неприятное, однако, заключалось в том, что у одной груши высохла, казалось, ни с того ни с сего, макушка, когда-то гордо вознёсшаяся ввысь и раньше всех встречавшая восход солнца, — значит, она не будет больше расти…
Китайские яблони выглядели ещё молодо, лишь несколько веток было сломлено детьми ещё по осени, а теперь эти ветки безжизненно висели на тонких жилах коры.
Неприхотливые антоновка и белый налив для неискушённого глаза были прежними, здоровыми, основательными, полными упругой энергии деревьями. Но старик Харламов и тут обнаружил непорядок. Сорвал несколько цветков, долго нюхал их, пробовал на язык, разжевал и под конец, сморщившись, как от внезапной боли, выплюнул.
В соседних садах, образовавших вместе с бывшим харламовским один большой колхозный сад, наблюдалась та же картина.
Только у самого шалаша, куда Михаил Аверьянович и Илья Спиридонович вернулись после своеобразного путешествия, они увидели в полной красе раздобревшую, раздавшуюся в длину и ширину зерновку — этому дикому созданию всё было впрок…
— Худо, сват. Погано! Помрут яблони без присмотра. Не могут они жить без человека, — только и сказал Михаил Аверьянович своему необычно молчаливому спутнику.
Потом они вошли в шалаш, присели на плетёную кровать и надолго затихли.
…Знали ли те немецкие артиллеристы, которые страшным, чёрным утром 22 июня 1941 года наводили жерла орудий на какой-нибудь наш пограничный городок, — знали ли они, что их снаряд полетит так далеко и смертельно ранит и вот этот тихий сад?..
Старый садовник был, однако, ещё жив. Его сердце стучало, гнало по жилам кровь. Он готов был вступиться за своё детище и спасти его — не зря же поднялся он с постели! Михаил Аверьянович ждал того часа, когда в его мускулах почуется прежняя мощь, когда ноги перестанут дрожать, а глаза заволакиваться пеленою.
Он ждал и не знал, что смерть подкрадывалась не только к его саду, но и к нему самому. На этот раз, чтобы действовать наверняка, она обзавелась союзниками…
С фронта одно за другим пришли извещения о гибели внуков Ивана, Егора, а чуть позже и Александра с Алексеем.
Когда старик устоял и перед этим ударом, ему был нанесён ещё один, может быть самый страшный.
Как-то под вечер в сад к Михаилу Аверьяновичу пришла Меланья, супруга покойного Карпушки. Она посидела часок, попила чайку с малиной, до которого была большой охотницей, помянула добрым словом вместе с Аверьянычем Карпа Ивановича и, уже собираясь уходить, как бы между прочим обронила:
— Ульяна-то Подифорова преставилась…
Сначала ему показалось, что на его голову обрушили кувалду. Глаза мгновенно налились кровью, тысячи разноцветных точек замелькали перед ними. Потом острой болью полоснуло в левой части груди. Боль эта мгновенно ударила в шею, в плечо, в левую руку, в ногу, потом охватила всё тело. Затем она стала быстро утихать, утихать и, наконец, совсем утихла. Наступило блаженнейшее состояние покоя. Но то была черта, за которой, приблизясь вплотную, стояла смерть.
В кустах крыжовника запел соловей — звонко, сочно, с переливами и прихлебом.
Но соловей запоздал.
Мёртвые песен не слышат…
24
Сад погибал на глазах у Фроси, и она хотела, но не могла ничем помочь ему.
— Не разорваться же мне на части, — говорила она отцу, когда тот приносил ей очередную невесёлую сводку о саде и просил помочь людьми. — Пётр Михайлович захворал — может, и не подымется больше. Теперь всё на моих плечах. Нет у меня ни единой души, тять. Девчат всех забрали в Баланду на ремонт тракторов. Ребятишки сидят по домам — не во что их обуть и одеть. Да и отощали сильно, какие из них работники! А ведь осень, холода наступили…
Зима в тот год была лютой. Свирепые морозы ударили уже в начале ноября. Они застали затонцев врасплох — во дворах не было ни хворостинки. Люди остались без топлива. Избы ослепли. Из-под насупленных соломенных крыш мрачно глядели они на мир бельмоватыми, промёрзшими окошками. Ни один солнечный луч не мог проникнуть внутрь жилья сквозь толстый слой льда на стёклах. У озябших детей не хватало мочи дыханием своим проделать крохотные зрачки, чтобы окна хоть чуточку прозрели. Печи стояли холодные и враждебные. От них который уж день не исходило благодатное, спасительное тепло.
И вот к лесу со всех концов Савкина Затона потянулись сани и салазки, в последние были впряжены женщины. Вскоре они вернулись ни с чем: лесники неплохо несли свою службу.
Что же делать? Не замерзать же в самом деле?
Живая человеческая плоть требовала тепла.
Но где его взять?
Теперь-то трудно установить в точности, какая из солдаток решилась первой, в чьём дворе раньше всех появилась срубленная яблоня. Только с того дня по всему селу закрякали, застучали топоры. Над огородами, над садами взмыли красные щепки. Из всех труб густо повалил дым. Из голландок и печей прямо на пол живой, горячей кровью потекли струи яблоневого сока, избы наполнились кисло-сладким его запахом.
В один месяц исчезли яблони на приусадебных участках колхозников. Печи быстро пожрали палисадники и теперь с чёрными, разверстыми ртами нетерпеливо ждали новых жертв.
И вот лунной январской ночью одиноко и сторожко застучал топор у Вишнёвого омута. В ту же ночь ему откликнулся другой за Игрицей, в старом колхозном саду.
И лиха беда начало.
Сперва рубили с наступлением сумерек, а потом уж и днём, никого не таясь и не страшась.