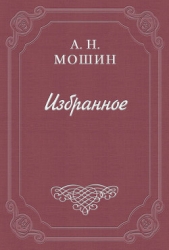Вишневый омут. Хлеб - имя существительное

Вишневый омут. Хлеб - имя существительное читать книгу онлайн
В книгу выдающегося русского писателя, лауреата Государственных премий, Героя Социалистического Труда Михаила Николаевича Алексеева вошли роман "Вишневый омут" и повесть "Хлеб - имя существительное". Это - своеобразная художественная летопись судеб русского крестьянства на протяжении целого столетия: 1870-1970-е годы. Драматические судьбы героев переплетаются с социально-политическими потрясениями эпохи: Первой мировой войной, революцией, коллективизацией, Великой Отечественной, возрождением страны в послевоенный период... Не могут не тронуть душу читателя прекрасные женские образы - Фрося-вишенка из "Вишневого омута" и Журавушка из повести "Хлеб- имя существительное". Эти произведения неоднократно экранизировались и пользовались заслуженным успехом у зрителей.
Содержание:
Вишневый омут
Хлеб - имя существительное
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
«Пчела берет взяток с цветка, а с пчелы берут взятку... кто?»
После такого вопроса, вставшего перед ним вдруг, внезапно, Капля как-то заскучал, сник, грустно задумался.
А во второй половине зимы пришла беда – пчелам не хватило меда, пасеке грозила погибель. Сахару ни в сельской лавке, ни в районе не было. Не было его даже в областном центре. Был, однако, сахар в сундуке, под семью замками у жены Настасьи. Самонька, племянник, прислал из Москвы посылку, тот самый Самонька, о котором вот уже много-много лет не было ни слуху ни духу и который обещал вскорости заявиться в родное село погостить.
Настасья была старуха высоченная, а по части дородности она и ее муж были величины столь несравнимые, что и говорить нечего. Если б Капля смог выпрямиться во весь свой рост, и то едва достал бы до ее плеча. И при таком-то несоответствии Капля ухитрялся время от времени колотить свою супругу – по старинной, знать, привычке. Как только она провинится перед ним – опять же с его точки зрения провинится, – он взбирается на сундук, зовет:
– Поди сюда, Настасья!
Та покорно подходит, подставляет голову. Капля потреплет за косы – слегка, для порядку, – скажет не очень сердито:
– Ну, будя с тебя. Ступай, дура!
Теперь он решил похитить у Настасьи сахар и спасти пчел. «Сами-то переживем. Вон в кооперации солодкие корни продают. Опять же свекла».
– Ты б, Настасья, рубаху мне новую вынула из сундука. В райком вызывают. Неудобно в этом.
Не подозревая о хитрости мужа, Настасья вынула рубаху, штаны и, не закрывая сундука, вышла в заднюю избу, чтоб рубельником погладить-покатать мужнину справу.
Капля с проворством хоря нырнул в сундук, выхватил сумку с сахаром и мигом выскочил из избы.
В тот же день в доме Капли произошла редкая по своей ярости и накалу баталия.
– Журавушке, поди, отнес сахар, старый ты кобелина! – кричала Настасья, утратив постоянную свою покорность, охаживая Каплю рубельником, которым еще недавно тщательно выглаживала его штаны.
Капле с великим трудом удалось вырваться из ее цепких рук и укрыться у Серьги Волгушева, где он провел трое суток кряду, забаррикадировавшись точно в дзоте.
Пчелы, однако, были спасены.
Но Капле, видимо, до конца его дней суждено будет оставаться Каплей, потому что прозвище оказалась так же прилипчиво, как мед пчелы, во имя которой старик натерпелся разных напастей.
– Пойду-ка я, мать, в сторожа к хлебу, – сообщил он о тайных своих намерениях старухе в первый же день их примирения. – Хлеб – дело сурьезное.
На следующее утро пришел в правление и объявил категорически:
– Ну, председатель, увольняй. Надоело мне это сладкое дело, как горькая редька.
Настасья же про сахар стала вспоминать все реже и реже: в последние годы в сельском магазине продукт этот водится в избытке, на радость всем и в особенности самогонщицам.
Самонька
Так звали в Выселках худущего, долговязого парнишку с большими оттопыренными ушами. Уши были очень приметной частью на круглой Самонькиной голове и потому, что они непомерно большие, и потому, что вечно горели жарким пламенем от частого и не слишком ласкового прикосновения к ним отцовской руки.
Помнится, Самонька принимал ежедневную трепку как должное, с мужеством провинившегося, когда, сколько ни ищи, не найдешь хотя бы самый малый довод в свое оправдание: к примеру, что ты можешь сказать, ежели тебя хватают в чужом саду или в огороде, хватают и ведут к папаньке?
Мой брат Ленька имел неосторожность состоять в дружбе с Самонькой и по этой причине часто получал от своего отца то же самое, что его приятель от своего. Нередко экзекуции вершились в один и тот же день, даже в один и тот же час, и это вроде бы уравнивало друзей, делало наказание не столь уж чувствительным.
Все-таки, думал Самонька, не меня одного отодрали, но и Леху. Ленька, в свою очередь, мог подумать точно также о Самоньке, и обоим было легче. Не зря же сказано: на миру и смерть красна. Во всяком случае, через какой-нибудь час они начисто забывали о полученной взбучке и, встретившись, уже планировали очередной набег на чей-нибудь сад или бахчу.
В школу Самонька и Ленька ходили лишь до Рождества – на большее у них не хватало усердия. Забежит, бывало, Самонька в заранее определенный ими срок к другу и торжественно объявит:
– Леха, кончаем!
При этом выпачканная чернилами сумка с истерзанными учебниками и тетрадями летит на печку, а плутовская рожица Самоньки сияет безмерным счастьем.
Ленька давно ждет этого часа и, разумеется, сразу же соглашается.
Неведомо как приятели все же докарабкались до третьего класса, но дальше продвинуться уж не могли. Так и сидели третий год в этом третьем, пока их не поперли совсем из школы.
Потом Самонька, как и многие в ту пору, исчез из села. Умер ли, никем не замеченный, в страшном тридцать третьем году, убежал ли куда, гонимый голодом, никто не знал. Даже его приятель Ленька, которому, видать, было не до Самоньки.
О Самоньке почти все уже позабыли, когда – лет двадцать спустя, вот теперь – он объявился вновь в родных Выселках. Сейчас это был высоченный детина годов этак тридцати семи, в военной форме, по которой невозможно было определить, к какому роду войск причислен ее владелец.
Близких родных на селе у Самоньки не было: мать и отец умерли в том же тридцать третьем, а единственный дружок Ленька убит на войне, затерялась его могила где-то в смоленских лесах.
Словом, не перед кем было особенно похвастаться и своей великолепной формой, и городским благоприобретенным выговором, презирающим местное, волжское, оканье. И – что самое главное – не перед кем погордиться необыкновенной должностью в самой аж столице Москве. А как ему, бедняге, хотелось похвастаться! Если признаться честно, только для этого одного и припожаловал он в родное село.
С досады дернул как следует сорокаградусной в обществе своей семидесятилетней и непьющей тетки Настасьи, у которой остановился квартировать, и сейчас же почувствовал жгучую потребность поведать ей, кто он и что...
– Знаешь, тетенька, где я служу?
– Нет, милый, откель же мне знать?
– В Москве!
– В Москве? Слыхала, сказывал старик... В самой Москве? – удивилась Настасья, и Самоньке показалось, что старуха глядит на него с крайней завистью. – Оттель, значит, сахарку-то мне присылал, сынок?
– Оттуда, из Москвы.
– И где же ты там, сынок, кем?
Самонька глянул в одну, в другую сторону, покосился на окно, как бы боясь, что их подслушают, и шепотом, как величайшую тайну, доверительно сообщил:
– Важный объект охраняю.
– Сторожем, значит? Трудно, поди? Вон мой старик кой уже год колхозные амбары охраняет, сторожит, стало быть. Ране-то при пчелах был, да больно, вишь, кусаются пчелы энти... Теперь при хлебе. Ни дня, ни ночи покоя нету. Придет, прозябнет весь...
Самонька нетерпеливо перебивает:
– Не сторожем я, тетенька, пойми ты!.. Важный объект! Понимаешь?
– Как же, как же, голубок!.. Вот я и говорю: простоит, сердешный, с ружьишком всю ночь. А ночи-то зимой длинные-предлинные, морозы лютые, стужа... Поставлю ему самовар. Весь как есть выпьет... Легко ли сторожем-то быть? Понимаю, чай, не первый год на свете живу...
Самонька в отчаянии крутит головой:
– Да пойми ты наконец, старая, не сторож я, не караульщик, а командир... охраны. Это тебе не амбары стеречь, а важный объект!
Но бабушка Настасья продолжает свою линию:
– Я и понимаю, я и говорю: нелегко тебе, сынок. Сторож – должность беспокойная, ночная. Мой-то вон придет под утро домой – в бороде сосульки намерзли, отдираю ему их. «Шел бы ты, говорю, старик, на пенсию – сто семнадцать трудодней полагаются пенсионеру, хватит с нас...» – «Нет, говорит, старуха, рано мне на пенсию – людей не хватает в колхозе, как же я могу лежать на печи... Люблю, говорит, сторожить колхозное добро, особливо хлеб...» Так что трудная у вас с моим стариком должность, сынок! Как же, я все понимаю!