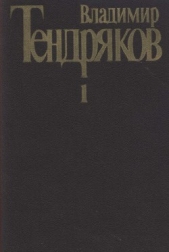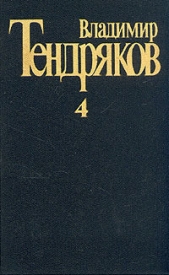Собрание сочинений. Том 4. Повести

Собрание сочинений. Том 4. Повести читать книгу онлайн
В настоящий том вошли произведения, написанные В. Тендряковым в 1968–1974 годах. Среди них известные повести «Кончина», «Ночь после выпуска», «Три мешка сорной пшеницы», «Апостольская командировка», «Весенние перевертыши».
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Адриан Фомич негромко произнес:
— Весна будет. Сеять придется.
И Женька ухватился за его слова:
— На семена оставили?
Адриан Фомич покачал головой:
— Какие же это семена — сор заметенный.
Да он, Женька, не хуже старика знал, что и Нижнеечменском районе забрали на госпоставки все, даже семенной фонд.
— Весной людям работать, — продолжил спокойно Адриан Фомич. — Много ли, сам посуди, на траве наработаешь. Вот все, что сберег, весной по горсточке выдавать буду… Работникам…
Женька ковырял палкой в куче: «Что ж ты мне, старик, показываешь? Я же обязан эту пшеницу сдать! Для того и приехал — найти резервы. Резерв…» Но ничего не сказал, тихо высыпал из горсти зерно в кучу, вытер ладонь о шинель. После сорной пшенички почему-то жгло ладонь.
Три мешка не спасут ни государство, ни авторитет приезжей бригады, ни самого Женьку. Если он отсюда ничего не вывезет, ни одной горсти — поругают за неактивность для порядка, но каждый поймет — уж коль нет, то и не родишь. Если же привезет всего три мешка — будут смеяться: вот, мол, это размах. И никогда он не простит себе, если отберет эти последние три мешка зерна пополам с сором.
— Да, — вдруг торопливо заговорил Женька. — Да… Весной вам круто придется. Пошли.
«Для работников, для тех, кто закладывает новый урожай. Разве не резонно?..» Знакомый командир хозвзвода старшина Лядушкин частенько говорил: «Приказ начальства для нас — закон. А закон — что телеграфный столб: перешагнуть нельзя, а обойти можно».
Они вышли из амбара под мелкий дождичек, сеявшийся на пустынную деревню Княжицу.
В конторе правления, в простенке рядом с отрывным календарем, забыто висит пожелтевший портретик — седой нестриженый человек с чопорно — горделивым лицом в подслеповатых очках. Отрывной календарь меняют каждый год, а портрет бессменен, повешен, быть может, во времена зарождения колхоза «Красная нива». И как он попал сюда, в деревню Княжицу? Женька еще в школе любил почитывать стихи, только потому и угадал — изображен на портретике поэт Тютчев. Тот самый, кто написал песню: «Я очи знал, — о, эти очи! Как я любил их, — знает бог!..»
Случайно занесло сюда Тютчева, случаен и Женька. Самое разумное — встать бы сейчас, взять палку и… даже лошади бы не просил, пешком бы, хромая по грязи, из Княжицы, из Кисловского сельсовета, из Нижиеечменского района…
Хлеба нет, в амбарах даже запах чердачный. Нет хлеба — наглядно, как бывает наглядна сама пустота. Что тебе здесь делать, товарищ уполномоченный?..
До сих пор ты видел войну в лицо: освещенные луной улицы разбитого Сталинграда, улицы — что долины среди диких, выветренных скал, скованная льдом речка Царица, заваленная смерзшимися в корчах трупами, закопченные горбы печей на углищах — степные хутора… А теперь погляди вот на эту войну сзади, с затылка: тихие-тихие, словно вымершие деревни без мужиков: подавляюще просторные — «зернышко оброни» — поля, переставшие рожать; лепешки на столах, похожие на коровий навоз…
Он, Женька, не волен взять палку и уйти, его командировочное удостоверение выписано на две недели. Ты словно дал служебную присягу, нарушение ее приравнено к дезертирству.
А можешь ли ты сказать во всеуслышание правду, простую, как капля дождя, очевидную, как грязь на дороге, безнадежную, как осенняя погода? Хлеб надо еще вырастить, а на выращивание урожая уходит целый год, две командировочные недели тут никак не помогут.
Женька глядит мимо портрета Тютчева в окно. «Я очи знал, — о, эти очи!..»
За окном — дождь не дождь, просто мокрота, за окном — осень-сверхсрочница. Всего-навсего осень, впереди долгая зима, весна, лето — ох, как далеко до нового урожая!
Адриан Фомич сидит рядом, не снимая шапки.
— Может, бумаги посмотришь?.. Документацию о сдаче, — предложил он. — У нас каждая справочка подшита.
Хлеб заменить канцелярскими бумажками!
Командировка выписана на две недели!..
За низеньким оконцем мелькнула тень, прочавкали быстрые шаги, простучали по крылечку, бухнула входная дверь.
— Кто там — кладовщица или Симка-счетоводка? — погадал равнодушно старик.
Нет, не Симка и не кладовщица. В шерстяной шали, втиснутая в подростковое пальто — талия узкая, бедра распирают, — стуча солдатскими кирзовыми сапогами, вошла Вера.
— Здрасте вам! — счастливым голосом. И белозубая улыбка, и лицо мокрое, исхлестанное ветром, и мокрые, слипшиеся ресницы, и сияние под ними.
И Женька, сам того не ведая, тоже расплылся от уха до уха. Не ждал и не верил, что такое чудо возможно — «здрасте вам!». Такой вот шальной клыкастенький оскал бывает у молодых добрых собак: «От избытка чувств даже куснуть могу, но вреда не сделаю». И чопорно глядит с простеночка засиженный мухами Тютчев: «Я очи знал, — о, эти очи!..»
— Здравствуй, сорока, — ласково поприветствовал Адриан Фомич. — Что принесла на хвосте?
— Обожди, не сразу… Отдышусь. Погодка-то — страсть. В поле дует… Как живете — можете? — И веселым, с искрою, глазом провела по лицу Женьки — обожгла.
— Да вот гадаем, что нам делать? И сгадать не можем. Хоть бы цыганка какая подвернулась, на картах раскинула.
— Может, я за нее сойду?
— Нагадаешь — спасибо скажем. Верно, товарищ уполномоченный?
Женька смущенно обронил:
— Безвыходное положение.
Вера повела в его сторону румяной скулой:
— Установочку дали…
— Уже кое-что, — одобрил Адриан Фомич.
— Те ометы, что в сырую погоду молотили, — перемолачииать. Там должно зерно остаться.
— Кто же до этого додумался?
— Да новый ихний — товарищ Божеумов. Он в колхозе «Борьба» самолично проверил солому после обмолота. Говорит: осталось зерно, можно взять…
— А можно ли?
— Мое дело передать, а вы — как знаете.
— Что ж, Фомич, надо, — подал голос Женька. — Если хоть какое-то зерно не домолочено, то оставлять его гнить — преступление по теперешнему времени.
Вера рассмеялась:
— Не сгнило бы…
— Как это? — не понял Женька.
— Они, может, так и молотили, чтоб самый чуток оставался. Зимой бы каждый по охапочке в дом носил. С охапки по щепоточке, а с мякиной — пригоршня. Верно я говорю, Адриан Фомич?
— Верно, красавица, верно. Кто-кто, а ты-то своя девка, соседская, знаешь, что наш народ — ловкач. Зимой тишком жиреет, никто и не замечает.
Вера фыркнула:
— Да уж, жиреет… А что-то вам делать надо, сидеть сложа руки не дадут, да и самим, поди, тошно.
— Опять, умница, в точку попала. Сидеть сложа руки тошно. Лучше уж с пустой соломой поиграть.
— Трактор скорей просите под молотилку. Не то на лошадях прикажут. Пока трактор идет, вдруг да погодка повыветреет.
— А все-таки я хотел бы проверить прежде — осталось ли в ометах зерно, — сказал Женька. — Зачем мартышкиным трудом заниматься.
— Ометы в поле.
— Сходим сейчас к ним, Фомич.
— Сходим, коль хочешь. Ты — начальство, я обязан во всем тебя слушаться.
— Я могу показать ометы, — вызвалась Вера. — К себе в Юшково бегу, а это по дороге.
— И то дело, — хитро сощурился Адриан Фомич. — Проводишь, Евгений, девку, чтоб волки не покусали.
Вера сверкнула оскальцем.
— Волки! У нас их столько же, сколько парней. Все дороги обегала и ни одного не встретила… волка.
Поля в черной, перепревшей стерне. Скользит, скользит по ним взгляд, оглушает влажная тишина, утомляет пустынность. И не понять, чего так садняще жаль-то ли всю эту дичающую от недостатка рук землю, то ли самого себя, слабого, неспособного помочь ни этой земле, ни людям.
А самому себе ты чем-нибудь поможешь? Тебе уже двадцать два года. Оглянись назад — жизнь твоя схожа с этими полями: скупа красками.
В восьмом классе он влюбился в Ляльку Возницыну, как ни странно, со спины. Лялька сидела в классе впереди него, и однажды он заметил — у нее из-под рыжеватых воздушных завитков твердая белая шея падает вниз с каким-то стремительным уклоном и растекается под тонким ситцевым платьем в столь же твердую, упругую, гибкую и текучую спину. После этого он стал замечать, что у Ляльки Возницыной и особая походка — порывистая и, сдержанная одновременно, и движения крепких маленьких рук мягкие и решительно-властные, и голос у нее низкий, из глубины, обволакивающий. Даже сквозь лицо ее, вяловатое, с этакой не сходящей дремотцой, если вглядеться, проглядывало другое лицо — твердое, настороженное, пугавшее Женьку.


![Собрание сочинений. Том 5. Покушение на миражи: [роман]. Повести](/uploads/posts/books/49841/49841.jpg)