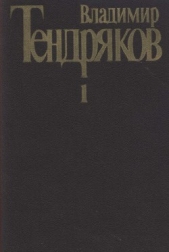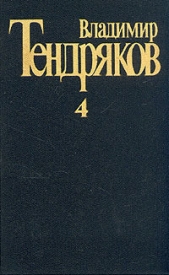Собрание сочинений. Том 4. Повести

Собрание сочинений. Том 4. Повести читать книгу онлайн
В настоящий том вошли произведения, написанные В. Тендряковым в 1968–1974 годах. Среди них известные повести «Кончина», «Ночь после выпуска», «Три мешка сорной пшеницы», «Апостольская командировка», «Весенние перевертыши».
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Старец суровенько попросил председателя:
— Ты бы мне кусок пирога вынес. Хошь из травки. Чистого-то хлебушка, поди, у самого нету.
— Входи в дом, человече. Собаку не пустить под крышу в такую ночь совестно.
— Собака-то почище меня будет. Вошей тебе могу натрясти.
— Что ж делать, раз гость такой набежал. Не спать же тебе на земле, под дождичком.
— Сведи на конюшню вместе с лошадью. Самое таковское для меня место.
— Полно, нужда. Уж как-нибудь со своими вошками у порога перебудешь. Не топить же баню сейчас. Не чумной… Уж как-нибудь… Пошли!
Над столом висела керосиновая лампа — пятилинейка, на расколотом стекле ржавый пластырек из клочка газеты. На столе самовар, раздутый, ведерный, с царскими медалями на боку, должно быть, служивший еще деду хозяина. И широкое деревянное блюдо с дымящейся картошкой в мундире…
Женька выложил на стол свои припасы — полбуханки сельповского хлеба, тяжелого, непропеченного, но зато чисто ржаного, не мешанного ни с мякиной, ни с куглиной, в бумажном кулечке крошащийся маргарин, десяток кусков сахара — рафинада.
Адриан Фомич отрезал от полбуханки два ломтя, на каждый положил по куску сахара. Один ломоть отдал мальчугану, внуку, такому же костисто вытянутому, с голубенькой тонкой шеей, белобрысому. Другой ломоть отнес сам на печь больной старухе:
— Нут-ко, хворая, полакомься.
Женька поинтересовался:
— Давно женка свалилась?
— Да нет, не жена, — нехотя ответил Адриан Фомич. — Жена-то у меня померла, как на сына похоронную получили.
— Верно, сокол, верно! Спроси-ка его — кто я ему? Кто?! — раздалось с печи.
— Ну, заведет сейчас, — поморщился хозяин.
— Не мать, не теща, — седьмая вода на киселе, да и то есть ли, — старуха, припав виском к кирпичам, глядела вниз темными блестящими глазами, говорила же бойко, даже со страстной, надрывной силой. — Чужая я им, как есть чужая! А вот к себе забрали — ледащую. Кормят, греют, обиходит, а спроси, добрый человек, почто?.. Какая корысть с меня?
— Да ладно тебе, Пелагея. Думаешь, интересно кому слушать тебя?
— Чего ладно-то, чего ладно! От себя ж куски отрываете. Смотри-ка — хлебушка чистого да сахарку передал. А сам?.. Сам-то небось забыл, какой скус у сахару. Сам-то посовестится глазом поглядеть на сахарок-то. А на меня ли добро тратить? Меня в нужник кинуть полезно…
— Вечно недовольна, устроена уж так.
— Недовольна! Истинно! Тем, любой, что никто не видит, какой ты! Слепы люди! — Больная по-прежнему не подымала головы, но запавшие глаза дико и гордо блестели, и в голосе слышался негодующий вызов, словно не Адриан Фомич, а она сама свершила непостижимый подвиг добра.
— Соседка наша, одна-одинешенька… — пояснил Адриан Фомич Женьке, — не глядеть же, как умирает под боком. А попробуй-ка содержать ее на стороне — избу топи, по ночам к ней через улицу бегай, так вот к себе прибрали, удобнее. А она никак не успокоится…
— До гроба не успокоюсь, до гроба! Кто б другой меня вот так приютил да согрел? Нету таких, как ты! На всем белом свете не сыщешь… Ох, ноги бы мне, ноги! Пожила бы еще, рабой бы тебе, Фомич, стала. Ра-або-ой!..
И старуха еще сильней вжалась дряблой щекой в кирпичи, захлюпала носом. Адриан Фомич махнул в ее сторону рукой, принялся угощать Женьку:
— Ты ешь давай, картошка остынет. Чем уж богаты… А богаты мы не шибко, сам понимаешь.
Мальчуган за столом откусывал от ломтя маленькие кусочки, лизал сахар, ничего не слышал и не видел.
Мать этого мальчишки, невестка Адриана Фомича, с молодыми густыми бровями и кротко — горьким, увядшим лицом, собрав на стол, пригорюнилась, разглядывая Женьку:
— Молоденький, а уж как старичок, с палочкой ходишь. Да и то слава богу… А вот я рада бы своего увидеть хоть без двух ног.
А в стороне, поближе к порогу, на раскинутом рядне, прижимаясь сутулой спиной к печному боку, сидел раскосмаченный старец, грел чугунно-темные руки о кружку кипятка. Возле его ног стояла тарелка с картошкой.
Внезапно Женьку охватило тихое счастье любви и покоя. Сырая ночь за окном, осенняя гнилая ночь. За потным черным стеклом — обескровленный войной район. И еще продолжается эта война, наверное, самая жестокая, самая отчаянная из всех войн, какие когда — либо были на земле. А здесь, под тускло светящей лампой, — особый мир, собранный вокруг скудно уставленного стола. Здесь все бесхитростно просто — накормить голодного, согреть замерзшего, приютить бездомного, помочь обессиленному. Просто… Не об этой ли человеческой простоте из века в век мечтали лучшие из людей, ради нее шли в тюрьмы, клали головы на плахи?.. Накормить голодного, помочь обессиленному!..
Под тусклой лампой, вокруг дощатого стола… Старуха, спасенная от смерти. Странник, подобранный на дороге, приглашенный в тепло. Голубенький, бескровный от недоедания, мальчонка, углубленно терзающий лакомство — ржаной ломоть непропеченного хлеба. Мать мальчонки, усталая баба со своим нехитрым бабьим сочувствием: «С палочкой ходишь…» С бабьим сочувствием и бабьей бедой — муж убит. И всему хозяин он — Адриан Фомич, сколоченно прямой старик в вылинявшей рубахе, с бледным, чистым лицом, с бородкой лопаточкой. Хозяин и законодатель роднящей простоты.
Как прекрасно, что есть такие места на земле! Сколько их? Да, наверное, не так уж и мало. Но будет больше! Женька верит в это. Как он счастлив, что попал сюда!
Хотелось сказать об этом, но боялся походить на больную старуху, которая столь назойливо говорила о доброте, что становилось стыдно не одному Адриану Фомичу. Лучше уж молчать и отогреваться душой.
— Да-а, молодые ходят с палочками… Война, — произнес Адриан Фомич, — на моей жизни пятая… Я ведь еще японскую помню. Живут, живут люди, и нате — повылезут, прости господи, пакостники, кровушку реками пустят. Да будет ли время, когда поганые грибы в земле давить станут?
— Будет! — не выдержал Женька. — Будет! — повторил он с распиравшей от счастья силой.
— Кхе-кхе! — раздалось от порога. — Съедят люди друг друга. Кхе-кхе! — смешок у странника смахивал на кашель.
— Чтой-то обличьем ты мне знаком, — воскликнула старуха, уже переставшая растроганно хлюпать, приглядывавшаяся сверху к страннику. — Гдей-то я тебя встречала, сударик…
Странник не удостоил ее ответом, потянул с наслаждением:
— Съе-едя-ат!
— Ерунда! — сердито отрезал Женька.
— Могут и съесть, — согласился Адриан Фомич. — Очень просто, потому что война от войны все страшнее.
— Кхе-кхе!.. Из дыма выйдет саранча на землю… «И сказано было ей, чтобы не делала вреда траве земной, и никакой зелени, и никакому дереву, а только одним людям… И в те дни люди будут искать смерти, но не найдут ее…» Кхе-кхе! В книге книг вот что сказано. В Библии.
— Сказки поповские.
— Я тоже думаю — сказки, — на этот раз Адриан Фомич согласился с Женькой. — Саранча ли страшна людям?
— Кхе-кхе! Там оговорено: у саранчи-то лица человечьи. Значит, люди против людей же… Кхе-кхе! Разумей святое слово.
— Право, гдей-то я тебя, старик, видела. Знаком ты мне.
Странник только тряхнул кудлатой головой в сторону больной старухи — не липни.
— Адриан Фомич, — торжественным голосом попросил Женька, — дотянись-ка, вон моя сумка лежит… Библия — книга книг. Я вам сейчас такую книгу покажу…
Руки дрожали, когда Женька расстегивал сумку. Он давно ждал этой минуты, знал: рано или поздно она случится.
Недолгую и несложную жизнь прожил Женька до той ночи, когда к ним в землянку внесли раненого лейтенанта.
Отец его, который и до сих пор работает фельдшером в районной поликлинике, когда-то устанавливал в Полдневской волости Советы, был даже в Москве на Всероссийском совещании по работе в деревне, свято верил в скорое царство свободы и справедливости на всей планете. Этой верой он заразил и сына. Женька только не успел, как отец, подкрепить свою веру серьезными книгами. Он глотал жадно романы от Дюма-отца до Льва Толстого и не осмеливался открыть Маркса. Но помнил всегда — Маркс ждет его на отцовских полках.


![Собрание сочинений. Том 5. Покушение на миражи: [роман]. Повести](/uploads/posts/books/49841/49841.jpg)