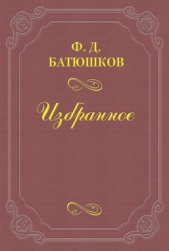Записки Анания Жмуркина
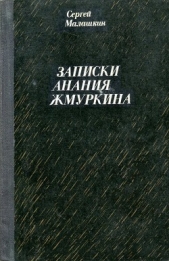
Записки Анания Жмуркина читать книгу онлайн
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
— Синюков, ты это к чему привел мужика и лысых лошадей? — побледнев, спросил растерянно Первухин. — Намекаешь на мою лысину? Я не погляжу, что ты тяжело ранен… Не погляжу… Да-с! Если ты не возьмешь своих слов обратно, то я… — Он вскочил с койки, метнулся к Синюкову. — Я тебе, мужик вислоухий, не лысая лошадь, а приказчик первого разряда.
— И я не мужик, а пролетарий из Риги.
— Купцы первой гильдии с почтением пожимали мне руку.
Прокопочкин, не вставая с койки, схватил костыль, стоявший у тумбочки, и зацепил его верхней частью за хлястик первухинского халата, потянул к себе. Первухин, не ожидавший, что его поймают костылем за халат, поскользнулся на паркете и упал. Поднявшись, он поправил халат и обернулся с кулаками на Прокопочкина.
— И ты… и ты за него! — воскликнул Первухин и опустил руки. — Что у тебя, Прокопочкин, за рожа? Не то она плачет, не то смеется? Не пойму. Тьфу! Вон у Жмуркина рожа, — он бросил взгляд на мою сторону, — всегда в одном настроении — язвительна… Даже и тогда, когда он спит. Как это твоя, Прокопочкин, рожа может в одно время и плакать и смеяться, будто ты сразу и муки крестные терпишь и по-детски радуешься?
— Дай я тебя, Первухин, поцелую, — прислонив костыль к столику, предложил неожиданно Прокопочкин. — Все мы говорим не то, что надо. Да и что можно нам путное говорить, когда мы находимся в таком состоянии. У тебя, например, прострелена мошонка… У меня, братец, оторвана левая нога, у монашка раздроблена левая лапка. Но и у меня и у братца Гаврюши не повреждена плоть… и вот женщины могут любить нас… — Прокопочкин поднял заплаканные глаза на монашка. — Отрок, верно я говорю или нет?
Гавриил резко повернулся к нему спиной, опустился на колени и закрестился на изголовье койки, где висела медная иконка какой-то божьей матери. Шкляр взял «Лукоморье» и закрыл им лицо. На его груди сверкали серебром и золотом георгиевские медали и кресты.
— Тебя, Первухин, ни одна женщина не полюбит… ты уж не мужчина. Ну вот, и заморгал глазами, — проговорил громче Прокопочкин. — Не надо. Не моргай. Лучше спляши. Люблю глядеть на тебя, когда ты входишь с плясом в палату, да и у меня от него слезы капают легче из глаз, не застревают, дьяволы, в горле. А вот насчет рожи-то моей ты, Первухин, сказал правду. Я и сам знаю, что моя рожа из двух половинок как бы составлена, вот и выражает она в одно время два настроения: веселое, как ты говоришь, и плаксивое.
— Веселое, — заметил глухо, с болью в голосе Синюков. — От такого веселья на лице Прокопочкина можно повеситься.
— Словно во мне живут веселый человек и страдалец, — не обратив на фразу Синюкова, продолжал Прокопочкин. — А кто виноват в том, что у меня раздвоенная рожа? Война. Она, Первухин, иного солдатика так разделает, что у него не только раздвоится рожа…
Семен Федорович шевельнулся под одеялом, застонал:
— Замолчите. У меня пятка опять начинает зудеть, а я никак ее не найду, чтобы почесать.
— Безбожники, как смеете вести такой разговор в лазарете его величества короля бельгийского! — угрожающе, крестясь на изголовье койки, прошипел монашек. — Я плоть свою убил перед божьим престолом… Я бесплотен, как ангел…
— Бесплотен, а сердишься, когда мы говорим, — заметил Синюков. — А какими ты глазищами глядишь на младшую Гогельбоген? Ангел!
Отрок Гавриил побагровел, зашептал быстрее молитву и, крестя красную физиономию, стукнулся лбом в паркет.
Прокопочкин продолжал:
— Я три дня спустя после битвы в Августовских лесах, где был ранен, очнулся… очнулся в полевом лазарете… и сам не признал себя. «Кто это? — глядя в зеркало, спросил я. — Прокопочкин это или не он?» Поверишь, Первухин, меня пот прошиб, лежу будто не в постели, не в простынях, а в болоте. О ноге не думаю, гляжу в зеркальце: нижняя половина лица губастая и веселая, ну, та самая, что была до призыва в армию, а вторая, верхняя, — не моя. Глаза неподвижные и в слезах. Думаю, неужели это оттого, что я в плен попал к немцу, такому же белокурому, как и я, парню, который считал себя моим пленником?
— Это очень интересно. Это как же так? — не вытерпел я. — Немец взял тебя в плен и считал себя твоим пленником?
— Да, это очень интересно. И очень вышло тогда у нас просто… — ответил Прокопочкин. — Немец попал ко мне в плен, а потом я к нему. Шел бой, снаряды рвались, вековые сосны скашивались взрывами, с треском падали на землю. Ливень пуль булькал в воздухе. Наши пошли в штыки, немцы навстречу… О, что и было… Больше трех часов, правда, с перерывами, шел штыковой бой. От двух дивизий — немецкой и нашей — почти ничего не осталось. Кто победил — неизвестно. Но только не живые, уцелевшие от битвы. Группки немцев и русских бродили по лесу, как перепуганные звери. Ни немцы, ни русские не стреляли, а только прятались за деревья и в воронки от снарядов. Начальства не было видно, как нашего, так и немецкого: оно или разбежалось, или погибло. Вдруг опять загудело, затрещало в лесу. Немцы и русские начали обстреливать из орудий ту часть леса, на которой только что закончился штыковой бой и горами лежали неподвижно полки двух дивизий — немецкой и русской.
Русские и немцы, уцелевшие чудом от штыкового боя, попав под ураганный огонь русских и немецких батарей, бросились прятаться. Вековые сосны стонут, гнутся, трещат, взлетают. Я кинулся в воронку от снаряда, присел, притаился. Тут же, почти следом за мной, скатился кубарем в нее немец. Я вскочил на колени и поднял винтовку. Немец нацелился на меня. Глаза у него круглые, как стеклянные шарики. Каска на боку. Жгём глазищами друг друга. До того распетушились, что не слышим рева орудий, взрывов снарядов, треска вековых деревьев и того вихря, который проносился по лесу и над лесом, над нами. «Ви, рус, мой пленник», — проскрипел в страхе немец. Я ответил ему: «Нет, герман, вы мой пленник». Так стояли на коленях минут пять — десять, а может, больше, меньше — не знаю, угрожая пленом друг другу. Немец не сдался мне, а я ему, так как оба были ужасно перепуганы. Мы оба находились в плену воронки, но не осознавали этого. Немец наконец и говорит: «Рус, ми желаем мир. Давай разоружаться». — «Что ж, герман, — согласился я, — мир так мир. Это хорошее дело. В этой яме нам делить нечего. Бросай ружье!» — «А ви, рус, не заколете меня, когда я брошу его?» — «Герман, как вам не стыдно! Русский солдат умеет держать крепко данное слово». Немец заморгал белесыми глазами, ответил: «Верю, верю, рус» — и бросил винтовку в сторону. Я тут же бросил свою, и мне стало не так страшно. Мы разоружились и облегченно вздохнули. Расстояние между нами было не больше трех саженей. Немец улыбнулся. И я ответил улыбкой ему. Потом мы стали осторожно подвигаться друг к другу. Подползли, поздоровались за руки. Он достал сигаретку из кармана и дал мне. Я вынул из сумки горбушку хлеба, отломил от нее половину и отдал ее немцу. Мы закусили. Потом закурили. Стрельба то усиливалась, то затихала. По лесу шел гул и рев, стоны, треск снарядов, деревьев, чавканье воды в болотах. Но мы чувствовали себя превосходно в воронке. Казалось, что мы были давно-давно знакомы, с детства, вместе ходили ловить рыбу на реку, на поденную работу к помещику, а потом работали в шахте, поднимали уголь на-гора. Он был, поверишь ли, Первухин, похож на меня: голубоглазый, широкоплечий, толстогубый и с деревенской улыбкой. Ну точь-в-точь я. Так мы просидели до сумерек. Снаряды трещали в лесу, недалеко от нашего убежища. Мы не заметили, как на дне воронки появилась вода, черная и густая, как деготь. В ней, как в зеркале, наши отражения. В воздухе запахло гарью. «Ви женат?» — спросил он. «Нет, — ответил я. — А вы?» — «Не успел, — вздохнул немец. — Я не крестьянин… Я два года жил в России. Тамбовск губернии. Ставил оборудование на винокуренном заводе. Вот и не женился, война пометшала». — «Ах эта война! Ну разве мне и вам нужна эта война?» — вздохнув, проговорил я. «Ни-ни! У вас — руки и горб. И у меня — руки и горб. Так зачем нам война?» Я глядел на него: он грустно улыбался толстыми, обветренными губами. И я отвечал ему дружеской грустной улыбкой и кивал головой! «Да-да, война нам не нужна». Немец поднялся. Встал и я: не сидеть же нам в этой яме? «А где не яма? Сейчас весь мир — яма», — подумал я, заглядывая в голубые глаза немца. Мы вылезли из воронки. Остановились. Почва содрогалась под нами. То там, то здесь рвались редкие снаряды, поднимая в воздух столбы земли, сучья и целые деревья. Дым поля густыми желтыми облаками по земле, закрывая горы трупов, воронки и поваленные деревья. Мы позабыли про винтовки, — они остались на дне воронки, под водой. Да и мы не думали о них. Пожимая мою руку, он сказал: «А теперь ви на восток, а я на запад». Мы не успели отойти друг от друга на расстояние двух-трех шагов, как упал снаряд в край воронки, из которой мы только что вылезли, чем-то тяжелым (взрыва я не слыхал) хлестнуло мне по ноге и отбросило меня в сторону. Когда я опомнился и, преодолевая страшную боль в ноге, приподнялся на локти, то тут же опустил голову: немец лежал возле меня, без головы, из серого обрубка его шеи, похожего на горло кувшина, слабо стекала черная глянцевитая кровь, подтекала под меня и мешалась с моею. Я потерял сознание. Вот с этого проклятого дня на моем лице и появились два выражения: веселое и, как говоришь, плачущее. Так-то вот, милый Первухин. Что задумался? Думать теперь поздно. Поди подними с молитвы монашка: он уж изрядно надоел богу своими поклонами.