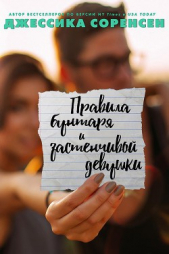Происшествие из жизни Владимира Васильевича Махонина

Происшествие из жизни Владимира Васильевича Махонина читать книгу онлайн
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Свет в окне колыхался, как от свечи, тени двигались за прозрачной занавеской, кто-то будто бегал там, изредка стонала, вскрикивала женщина. Я прошел в сад по мягкой тропинке, мимо роскошных роз. Сегодня кресло-качалка стояло не на веранде, а в саду, на земле. Я сел в него, качнулся и засмеялся — дух захватило у меня, будто качался я на быстрых качелях, и страшно мне было и хорошо.
Вдруг снова простонала, вскрикнула женщина. У меня закружилась голова, мне душно стало, тесно, пространство, в котором я находился, сдвинулось, сжало меня со всех сторон. Я задыхался. Пространство давило и давило на меня, и, уступая ему, я становился все меньше, все слабее. Сил уже не было, и, шатаясь, я побрел в дом. Но я ли шел или кто-то нес меня задыхающегося, не знаю, не помню. Я был беспомощен, я рвался куда-то из душной, мягкой темноты и не мог вырваться... Как долго это продолжалось? И все же я вырвался наконец, пространство, сжимавшее меня, раздвинулось, и, освобожденный, я закричал пронзительным голосом, вдохнув полные легкие живительного воздуха. Потом я лежал, отдыхая. А потом заснул.
Когда проснулся, уже светило солнце, было жарко, надо мной роем вились мухи. Я сидел на земле, прислонясь спиной к палатке «Пиво — воды». Два мужика с синими, склеротическими лицами лениво переговаривались, сидя на пустых вонючих бочках.
— Вань!
— Ну?
— Мы вчера похмелялись? Или третьего дня?
— А что?
— Не припомню. Ежели третьего дня, так это бюллетень кончается, на работу, стало быть, пора чапать. А ежели вчера, я, значит, больной еще значусь, можно гулять. Мы вчера опохмелялись, а, Вань?
— Нет, вчера я не опохмелялся. Вчера я в бане был. Во, точно, в бане, и там тяпнул. А сегодня от вчерашнего опохмелился.
— Выходит, третьего дня мы опохмелялись? Не везет. На работу, стало быть, надо.
Чертовщина какая-то. Я вскочил, почти побежал отсюда. Надо скорее уезжать, как можно скорее в стремительную московскую суету.
Зачем обманывать себя? Там, в Москве, в постоянном движении, в бесконечном круговороте нужных и ненужных дел, в шуме улиц, в телефонных разговорах, только там как бы уходишь от себя и в то же время только там остаешься наедине с самим собой, ощущая, что чего- то стоишь. А без этого ощущения как жить? Человек стоит столько, во сколько он сам себя ценит. В тишине же таких провинциальных, застывших во времени городков, которых — увы! — тоже осталось так мало, в их размеренности, однообразии будней испытываешь уже не одиночество, а бесконечную пустоту времени и пространства, случайность своей жизни...
Я торопился прочь, скорее по дневной солнечной улице, на которой уже не было дома № 27, того, куда я вошел этой ночью, всего несколько часов назад.
Вежливо здороваясь друг с другом, шли туда-сюда по своим делам люди не торопясь, тихо, спокойно, словно впереди у них была длинная, долгая жизнь,— а я-то знал, что они, как бабочки-однодневки, живут до темноты, до ночи, а ночью исчезают, уступая место иной жизни.
Навстречу мне шла дочь Аристарха Безденежных, несла в авоське буханку черного хлеба.
— Здрасте,— сказала она.
— Будьте здоровы,— ответил я.
— Хлеб купила, буду волосы мыть.
— Хлебом?
— От хлеба волосы как шелковые. Спасибо вам, — вдруг сказала она растроганным голосом, смотря на меня глазами, в которых было столько света и столько благодарности, что я смутился. — Вы проводили папу, спасибо...
Она шла рядом, повернув ко мне голову и не отводя взгляда, который по-прежнему смущал меня своей восторженностью.
— Знаете, — приостановившись, сказала она,— когда вы пришли, я испугалась, вы так похожи на папу...
Я вспомнил мертвого ее отца, маленькую лысую его голову, длинный нос, на который сползала пилотка, впалые щеки, тонкие губы и пожал плечами: чтобы увидеть хоть какое-то сходство между нами, надо иметь незаурядное воображение.
— У вас папины глаза и папин голос. Я слушаю вас, а будто с ним говорю. Так странно.
Не знаю, был ли я похож на ее отца или нет, но её лицо бесспорно мне было знакомо, как я этого не замечал раньше, вчера, не понимаю, ибо не заметить этого невозможно. Ее лицо мне знакомо давно — и тонкими губами, и веснушками на широком лбу, и выражением глаз, всеми чертами своими напоминая и в самом деле лягушонка. Да, конечно, она была удивительно похожа на девочку, которую я встретил много лет назад в рыночной толпе голодного Пронска, истерзанного немецкими бомбежками. Или мне просто кажется, что они похожи, эти девочки из разных времен: наверно, для стареющего человека все юные лица похожи...
Война недавно кончилась, я ехал домой, в Москву, увешанный медалями, с ощущением праздничности и ликования, я гордился самим собой, любовался собой, верил в счастливую свою звезду, был полон надежд. Хмель победы и свободы пьянил меня. Медали звенели на моей груди, пилотка сдвинута на затылок, сапоги начищены до блеска, зеленая гимнастерка застирана до белизны, ремень затянут на узкой талии так, что дышалось с трудом. Бравый вояка, неотразимый пижон, вольная птица!
В Пронске я ждал пересадки в эшелон, идущий в Москву, получил в комендатуре сухой паек, затолкал консервы — две банки американской тушенки — в вещевой мешок, сунул под мышку буханку ржаного хлеба и бродил по городу, не зная, как убить время до поезда.
Так я попал на пронский рынок, до отказа забитый людьми — стариками, старухами, солдатами. Рынок бурлил, шумел, роился, как улей. Торговали главным образом не продуктами, а вещами, домашним добром: рубашками, кофтами, старыми пиджаками, штанами, ботинками, тулупами, солдатскими шинелями, валенками, самодельными детскими игрушками, всякую всячину продавали, но покупатели почти не приценивались ко всему этому скарбу — искали съестное, еду искали, хлеб, мясо, муку, но откуда съестное в голодном городе у голодных людей.
Буханка хлеба у меня под мышкой была еще теплой, от нее исходил сытый, густой запах, который, казалось, заполнил весь рыночный воздух, я шел в толпе, и толпа бурлила вокруг меня, провожая голодными глазами. И тут я заметил, что следом за мной идет и идет девчонка лет восемнадцати, худая, как жердь, платьице висит на ней, будто на палке, тонкие губы сжаты так, что их и не видно на бледном изможденном большеротом лице. Глаза ее блестели лихорадочно, злые глаза, с явной злостью, почти ненавистью смотрящие на меня. Во всей ее фигуре, в выражении лица была угроза и решимость осуществить эту угрозу.
— Чего тебе надо? — спросил я.— Чего плетешься за мной?
— Дай хлеб,— зло сказала она.
— Еще ничего не хочешь? — спросил я. — Видала? — И показал ей фигу.
— Дай хлеб! — Она не сказала это, а прошипела с такой ненавистью, что мне не по себе стало: я, увешанный медалями солдат, испугался ее, что ли?
— Ты с приветом, да? Иди знаешь куда! И быстренько. Ну! — почти закричал я и пошел прочь не оглядываясь, чувствуя, как сильно пахнет моя буханка, видя, как горят голодным огнем глаза людей, думая только о том, как бы поскорее выбраться отсюда и спрятать буханку в вещмешок.
Я выбрался наконец с огороженной тесной территории рынка, забежал в пустынный двор ветхого, убогого дома, спугнув грязную злую кошку, которая рылась в отбросах возле помойного ящика. И увидел, что девчонка с ненавидящими глазами идет за мной следом.
— Уйди,— сказал я.
— Дай хлеб! — зло сказала она, смотря на меня так, будто я был ее злейшим врагом.— Я расплачусь!
— Денег не хватит,— сказал я.— Дуй себе!
— У меня и нет денег.
- Чем же ты будешь расплачиваться? — Я засмеялся.
— Дурак,— не сказала, а прошипела она, дрожа от ненависти, повторяя с исступлением: — Расплачусь, расплачусь! Не знаешь, что ли?
И я понял: она готова за эту буханку черного хлеба расплатиться собой... Я прошел всю войну, увидел все, что можно увидеть на войне, — смерть, радость выживания, страх и упоение боем, но одного не узнал: что такое женское тело. Не знал я этого, хотя долгими вечерами в блиндаже, слушая солдатские рассказы о любовных приключениях, тоже что-то болтал о мнимых своих победах над женским полом. А сам замирал от робости, когда санинструктор Верочка Шестакова оказывала мне знаки внимания, давая понять, что я ей вроде бы нравлюсь. Я очень хотел того же, чего она хотела, но робость была сильнее меня, и я делал вид, что Верочка мне совсем не нравится, хотя она ужасно как нравилась мне. Меня в жар бросало, когда я видел ее, я горел, тело мое звенело...