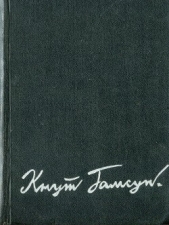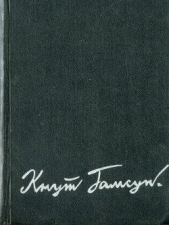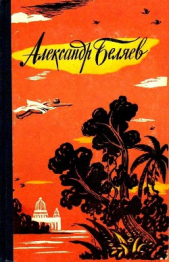Избранные произведения в трех томах. Том 3

Избранные произведения в трех томах. Том 3 читать книгу онлайн
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Все засмеялись. Засмеялся и Уткин: был доволен упоминанием о его зеленой «победе».
— Ты куда же это гнешь? — поинтересовался. — Какой–то вижу скрытый смысл в твоих высказываниях.
— Обыкновенный смысл, — ответила Устиновна. — И без того живем, дай боже, а все тебе мало. Жадный ты стал, Федя.
— Брось, тетка! — заговорил все время молчавший Платон Тимофеевич. Он к чаю не притронулся, стоял возле окна, смотрел сквозь морозные узоры на улицу, на рассыпавшиеся искрами огни фонарей. — Федя правильно толкует. Верно, впроголодь начинали жизнь. Верно, не только в бараках — в землянках жили. Через все прошли, пояса затягивали на последнюю дырку… да еще и за последней новые просверливали. Для чего? Для того, чтобы… верно, верно, Федя!.. для того, чтобы жизнь была у трудового человека сытая и одетая, чтоб никакой нужды, всего вволю.
— Ишь взыграл! — Устиновна даже руками всплеснула. — Накинулись оба. Будто я им главная супротивница. Будто планам ихним мешаю. Бесстыдники вы, и больше ничего!
— А между–то прочим, — заговорил старик, которому не удалось рассказать о строительстве первой доменной печи, — между–то прочим, насчет сельского хозяйства… Круто поднять его… Вот летом к брату в село ездил погостевать, — жизнь, скажу вам, не та, что была еще года за два до этого. То было, из деревни в город бежали. А вот и обратно тянутся.
Не дали Федору досказать, — отстранив порожнюю чашку и утерев усы, вступил в разговор слесарь Башлыков. — А Федор дело говорит. Если хотим жить еще лучше — от нас самих зависит… работать надо дружней… Рабочий класс, я считаю, не подведет. Он никогда партию не подводил. Широко шагнем после съезда, что верно, то верно. Главное, у кого ни спроси, у всех желание работать такое, что… — Он не нашел подходящего слова, стал закуривать папиросу.
— Всякие там ошибки, промахи — это исправится, — сказал Уткин. — Вместе с партией приналяжем, и все на свои места встанет. Никакие ошибки нас не остановят. Такой силы уже на свете нету, чтобы остановить.
— Так ведь их уже сколько и исправили, — дымя папиросой, отозвался Башлыков. — И с сельским хозяйством… Уж здесь говорили об этом. И насчет законности. И вообще. А приналяжем — и вовсе следа от них не останется. Мне один у нас сегодня давай гудеть в ухо: ага, дескать, то да се, кому верить? А я ему и говорю: а ты партии верь, не ошибешься. Шумиху–то что ж подымать. Не с такими делами справлялись. Гитлера вон разбили. Чего ты? Работай себе спокойненько, план выполняй.
Платон Тимофеевич все стоял у окна, жевал кончик уса. На душе было тревожно. Вот обсуждают друзья доклад на съезде, решения съезда, интересные выступления, планируют, как будут жить и работать дальше. А что он, старый доменщик Платон Ершов? Какие его планы? Чем он поможет партии в решении ее великих задач? Он еще ходит в цех, никому еще, кроме Искры Васильевны, да и то сгоряча, не сказал о том, что его отправляют на пенсию. Но это же последние дни: вот- вот будет объявлен приказ, и товарищи обо всем узнают. Он уйдет, они останутся. Все дела в цехе будут делаться без него. Без него будут выполнять планы, без него плавить металл, строить новую жизнь… А что же его жизнь — она кончена, что ли?
Он очнулся, будто от толчка. Уткин говорил:
— А это тебя, Платон Тимофеевич, касается. Прямо целиком и полностью тебя. Слышь, что в докладе сказано? Вот что в нем сказано, читаю: «Несмотря на то что развитие черной металлургии идет высокими темпами, у нас все еще ощущается недостаток в металле. Объясняется это быстрым ростом потребностей в нем народного хозяйства, а также тем…» Вот послушай, послушай! «…а также тем, что наши металлурги медленно осваивают производство наиболее экономичных и нужных для народного хозяйства профилей и новых марок металла». Понял?
Платон Тимофеевич промолчал.
— Вот и осваивай новые профиля и марки, — добавил Уткин.
— А это уж ты без меня делай, — ответил Платон Тимофеевич, и голос у него дрогнул.
Все обернулись к нему: чего это человек чудит?
— То есть как без тебя? — спросил Уткин.
— Да так. На пенсию отправляют.
— Батюшки! — воскликнула Устиновна. Чего ж ты молчал–то? Братьям бы хоть объявил. Совета спросил.
За окном подвывал ветер, вокруг фонарей искрилась морозная пыль.
— Такое время! — сказал Башлыков с возмущением. — Такие дела! Как же без тебя, Тимофеич? Без тебя нельзя. Это ты брось!
Платон Тимофеевич подсел к столу, двинул чашку под кран самовара, повернул кран — воды не было, всю выпили.
— Его и долить можно, — сказал с невеселой усмешкой. — Самовар–то. А человека… если выкипел? Человека не дольешь.
ЧАСТЬ ВТОРАЯ
1
Шел март, но зима не уступала. Где припекало солнце, там капало с крыш, а в тени держался мороз. В другие годы в такую пору уже летели на север через море гуси и журавли, на ветлах распускались барашки, возле скворечников скворцы и воробьи дрались из–за жилищ, над степью слышался первый жавороночий звон; колхозные рыболовецкие баркасы шли по свежей мартовской волне на пробный лов; заводили моторы отремонтированных траулеров и сейнеров на МРС.
Но в этот год не было слышно в небе ни журавлиных труб, ни гусиных кликов; баркасы еще были на берегу под навесами; пахло смолой, стучали молотки, — ремонт застрял из–за морозов.
Море лежало студено–зеленое, неспокойное. Двухдневный шторм изломал, искрошил лед, частью угнал его в открытое море, частью повыбрасывал на берег. Торосы громоздились местами такие — высотой с трехэтажный дом.
В ватнике, о котором рыбаки говорили «куфайка», в стеганых брюках, в резиновых сапогах, обернув ноги несколькими парами теплых портянок, Леля выходила солнечными утрами к торосам, смотрела в пенившуюся морскую даль; ветер хлестал по щекам, — надо было прикрывать лицо меховыми, обшитыми брезентом рукавицами.
Леля тосковала. Все радостное из ее жизни ушло окончательно. И директор МРС, и секретарь партийной организации, и разные другие люди уже сколько лет подряд предлагали ей помощь — какую она захочет, говорили, что ей, наверно, трудно год за годом жить в общежитии, что ведь можно в конце–то концов и отдельную комнату выделить: как–никак старый постоянный кадр. А может быть, она учиться хочет пойти, на курсы? И на моториста можно выучиться, и даже на тралового мастера, если есть желание.
Нет, учиться она не пойдет, пойти учиться — это значит попасть к новым людям, в новую обстановку, опять тебя будут разглядывать, опять надо заново свыкаться и приучать других к себе. А отдельная комната? Тоже — зачем? Наедине–то с собой оставшись, еще и в петлю полезешь. Наедине–то разное в голову идет. Уж лучше на людях… Нет, помощь ей не нужна. Она очень благодарна за внимание. Но ей, кажется, уже никто не поможет.
Пока Леля ездила к Дмитрию, она не замечала, насколько быстро бежало время от воскресного вечера, когда она покидала Овражную, и до вечера субботы, когда она вновь приходила туда. Сейчас оно, это время, мало сказать, что тянулось медленно и тоскливо, — нет, оно просто стояло на месте. Оно не шло, ему некуда было идти: впереди ничего не было.
Всегда готовилась Леля к тому, что Дмитрий женится на другой и скажет: прости–прощай, не поминай лихом, случайная и ненужная подруга. Ждала этого, ждала, но вот пришло оно — будто бы по сердцу чем–то холодным и тяжким ударили. Откуда только пришло несчастье такое — от инженера Козаковой, жены художника, или от Дмитриева брата, Степана? И на что судьбе понадобилось возвращать этого Степана из давно ушедшего, отболевшего, пережитого? Не все же возвращается, есть ведь и безвозвратное. Пусть бы лучше он стал безвозвратным. А если подумать теперь, то сколько любви берегла Леля для этого человека, через какие только страдания не пронесла свои чувства к нему, пока не встретила Дмитрия… И хорошо, что встретила Дмитрия, — разве понадобилась бы она Степану такая? Отшатнулся, смотрел на нее со страхом, как смотрят иные на улице. Хранит, видите ли, в кармане ее карточку. Но он хранит совсем другую Лелю, и не Лелю вовсе, а Олю, Оленьку Величкину. А ее нет, Оленьки Величкиной, растоптана немецкими сапогами. Как бы все изменилось в жизни, если бы у нее был ребенок! Дочка ли, сын — все равно, но ребенок, ребенок; для него она, мама, была бы, конечно, прежней, красивой. Все отняли палачи, все — и прошлое, и настоящее, и будущее. Дмитрий говорит: судьба — это то, во что веришь, а во что веришь, того добиваешься, а чего добиваешься, того и добьешься. Нет, Дима, не так. Судьба от тебя не зависит. Судьба — это что–то очень страшное. Оно над тобой, вокруг тебя, но не в тебе, нет!