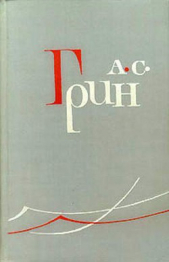Смех под штыком

Смех под штыком читать книгу онлайн
Автобиографический роман, автор которого Павел Михайлович Моренец (Маренец) (1897–1941?) рассказывает об истории ростовского подполья и красно-зеленого движения во время Гражданской войны на Дону и Причерноморье.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Ночь. Тихо…
Грянул орудийный выстрел — и забарабанил, как гигантский камень по небесной мостовой, снаряд. Рванул воздух взрыв в центре города — и задребезжали гулко повозки, застучали колеса по камням улиц.
Другой… третий… четвертый снаряд… Как долго грохочут обозы… И откуда они взялись?..
Безумные крики на кладбище; ура, предсмертный вой, стоны…
— Это штыками колют. Как мы не остались… — прошептал Илья.
— Молчи…
Началось страшное, родившееся в этой черной адской бездне.
Снова тихо…
Звонкая трель подков — кавалерия пронеслась в город. Разведка. Звуки все глуше, глуше… Зарычал автомобиль. Проехал мимо. Звуки глохнут.
Тихо… Кончилось ли? Шорох… Вскочили — метнулись в сторону, замерли. Шорох стих…
— Ищут, — шепчет Борька.
Звон… Что это, какая сила тянет за язык этот таинственный колокол?.. За речкой, за мостом…
Какой страшный, загадочный смысл этого звона! Три… Пять… Один… Семь… И каждый раз мучительные долгие паузы…
Все стихло… Умер город, агония кончилась. Могильный ужас, могильный мрак и тишина…
Что-то поет в поднебесье звонко, раскатисто, молодо. Все громче, все отчетливее:
Проснулись — и в один голос: «Неужели мы спали?» Радостное солнце над косогором. Сверкает роса на траве, на листве.
Разошлись, условившись встретиться на кладбище.
Вышли переулками. Тихо, пустынно. В небе серебрится, жужжит аэроплан. Так жутко и приятно.
Встретились на кладбище. Был праздник. Толпы людей проходили в разные стороны. Подозрительно было сидеть с плащами, узелками — спрятали их, а в них — револьверы.
Быстро освоились, даже вздремнули по очереди. Но прошла группа казаков, один из них вернулся, срубая шашкой под ногами ветви кустов и бурьяна, и ребятам почудилось, что их сейчас начнут ловить. Сорвались — и быстро прошли в орешник, а там понеслись, ломая ветви кустов. Присели, силясь остановить стук сердца, прислушались — трещат ветви сзади, — и снова понеслись.
Вечером были далеко. Прилегли на косогоре. Внизу — сады, вдали, в предвечернем сумраке, — скошенное поле; заря тухнет; по полю тащатся быки с большими возами хлеба; редкие гуляющие.
Как вольно дышится! Какой чудесный вечер! Они уже в стане врага! Фронт, страшный фронт позади.
Вышли в поле. Потухла заря. Навалилась ночь. Черная, как бездна. Идут, высоко поднимая ноги по траве, боясь споткнуться; падают в канавы, цепляются друг за друга.
Земля опускается, словно идут в преисподнюю. Зашелестел лесок. Набрели на копны сена, залегли спать.
Проснулись — не верится, что это явь: росистое прохладное утро; заря горит на востоке, птички весело щебечут — воля! Так легко, так по-детски радостно. Пробежали вниз, к ручейку, умылись — и в путь.
Тяжкий путь. Фронт неожиданно повернулся — и им пришлось итти три дня вдоль фронта, натыкаясь в каждой деревушке на отряды белых. И каждый раз выручало чутье.
И крестьяне помогали. Те самые, которые всего несколько дней назад восставали в тылу красных, организовывались в отряды зеленых. Они узнавали наших путников с первых же слов, невидимому, по необычной для деревни одежде; на туманные вопросы отвечали откровенно: «Вправо пойдете — там белые, а если свернуть перелеском, да ложбиной к речке — никого не встретите». Везде хорошо кормили и денег не брали; ночевать впускали в хату глухой ночью.
Однажды прошли деревушку. Счастливо. Мост миновали, когда караул туда под’езжал; по улице прошли, когда еще не было патрулей, а хождение казаков уже прекратилось; стемнело настолько, что товарищи не бросались резко в глаза. Однако наскочили на военного в бурке. Вышли за деревню — скачет погоня. И уже темно. Чуть пробежали полем — и круто свернули на окраину деревушки. Постучали в хату — их впустили, Хозяйка засветила лампу, оставив слабый огонек, чтоб через щели ставень не просвечивал сильно; поставила на стол чашку кислого молока, нарезала хлеба. Пока они кушали, присел за стол хозяин — старик в исподней рубахе, заспанный; медленно, спокойно, как о далеком прошлом, рассказывает.
Ждали белых. Ругали красных: грабят, беспорядок. Вот и дождались. Красноармеец кусок хлеба стянул — и доволен, а эти с запросами: им подавай яичницу, зажарь курицу, а нет — самого гуся. Панычи. Как-то залез кадетик в пасеку, добрался до меда, перебуравил в ульях; пчелы набросились на него, жалят, а он нахватал сотов, запихивает их в рот и бежит, мед по рукам, лицу течет, пчелы за ним роем летят. Раздуло ему лицо пузырями — губы толстые, кривые, глаза заплывшие.
Что значит — жадность. Нет того, чтобы на блюдечке или хоть в чашке попросить. Другому мягкую перину постели да еще девок начнет искать, чтоб на твою постель уложить. А если кто грабит, так не рублишко на харчишки ищет, а золото, мануфактуру: богатеть хочет.
— Хиба ж це дило? Такого порядку нам не треба.
Наелись товарищи, поблагодарили хозяев, предложили денег, уверенные, что их все равно не возьмут. Вышли. Прислушались — тихо, и скрылись в темноте.
Три дня крайнего напряжения, голодовок. Так измучились, так потянуло в город. И он наконец-таки показался: хрустальный, сказочный, высокий, гоголевский Миргород.
Все те же кавуны, величиной в два обхвата, дыни душистые, сладострастные, вязанки бубликов, горы фрукт.
Вошли в столовую — шпик… Ушли. Разошлись, чтобы встретиться уже в Чистяково. В городе, вместе, в одинаковых костюмах — нельзя. Илья накупил колбас, хлеба, фрукт, завернул все в газету и пошел на окраину.
Выбрал место в тени на скамейке, у забора и занялся восстановлением потерянного равновесия в питании, блаженно созерцая мир.
Проходят два бравых кадетика в мундирчиках, заломленных фуражках; каждому по двенадцати лет с натяжкой дашь. Пробежала дорогу кошка — стали, переглянулись, призадумались, затылки почесали. Потом старший тряхнул головой, снял фуражку, бросил ее по ту сторону дьявольской черты; другой сделал то же самое; затем оба перекрестились и храбро пошли.
Подзакусил Илья, уложил в карман пальто скудные остатки, пошел узнавать о поезде.
Гуляет по городу, на людей смотрит и себя показывает. До вечера далеко, спешить некуда. Придется еще верст пятнадцать или тридцать отмахать: здесь, в Миргороде, плохие порядки, пропуска надо брать. А на что ему пропуск, жил без него, и проживет как-нибудь.
На улицах — гуляние: офицеры, старые и молодые, жалкие юнкера, не дожившие еще до чести быть офицерами. Почти все в английских френчах. Проходят, гурьбой с шутками, задорным смехом украинки, у голов развеваются ленты. Прокатил на рысаке в кабриолете породистый красивый офицерик, высмотрел одну, смущенно потупившуюся, бросил ей: «Здравствуй, дивчина!»
Весело. Празднично. На стенах — воззвания. Пишут крестьянам вразумительно, проникновенно, как поп с амвона: посеял на земле помещика пшеничку — отдай долю ему, посеял гречиху — гречиху отдай, и взятое по глупости мужицкой из хозяйства его — отдай. Может, ты и не брал, но все одно отдай: где ж ему добру быть, как не у тебя. И все так просто, и ясно: десятую, восьмую, пятую долю отдай. Это называется: «немедленный приступ к земельной реформе для устранения земельной нужды трудящихся». Что ж, получить не удастся, а получат — скоро сами отдадут: бери, да отпусти душу на покаяние. Значит, скоро уйдут, мужички попросят.
Ночевал Илья далеко от города, в поле. Улегся на землю, подвернув под себя стебли конопли; завернулся в пальто, руки закинул под голову, глубоко вдыхает чистый душистый воздух и любуется звездным бездонным небом. Он любил помечтать, окинуть землю с высоты других миров. Тогда мелочи житейские, личные страдания становятся жалкими, не стоющими внимания; тогда выступает ярко и значительно лишь мировое, мощное, многомиллионное. Тогда открывается широкий кругозор, и он видит то, чего не мог видеть, когда погрязал в житейских мелочах. Становится гордым, дерзким, хочет большой работы, чтобы чувствовалось его участие в мощном водовороте.