Большая родня
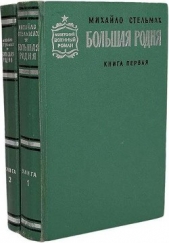
Большая родня читать книгу онлайн
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
— Нашла себе счастье какое. У Шевчика на всю усадьбу один хвост едва держится, хата не сегодня, так завтра развалится — иди тогда, хозяйка, на квартиру век нищенствовать.
С каждым новым словом Марийка все больше горячилась, сердилась и уже не слушала слов дочери, давая волю своей боли, собравшейся за много лет трудной жизни.
— Как придется за чужой пряжей кончики пальцев протирать, мандебуркой [33] давиться, за сноп жать, тогда не раз мать вспомнишь. А за Дмитрием будешь жить хозяйкой! Хозяйкой, а не наймичкой, не поденщицей! Какой хочет девке слово скажет — с выскоком побежит за ним! Самая лучшая побежит.
— Мам, чего вы ко мне цепляетесь? Не пойду я ни за Григория, ни за Дмитрия.
— Туда к чертовой матери. Может, за дурного Власа пойдешь? Как распустились теперь! Ждите, отец-мать, от такой утешения на старости лет. В кладовую как сучку брошу, пока не передумаешь.
— Тогда я убегу от вас, — отрезала Югина.
— Как убежишь? Куда? — оторопела женщина. Она только теперь, холодея, поняла, что у Югины есть ее, Мариино, упрямство. И это не порадовало Бондариху. — Куда же убежишь? — спросила так, чтобы и не очень грозно было, но и не подать виду, что она обращает внимание на слова дочери.
— В Комсомольское! — До наименьших подробностей припомнила встречу с комсомольцами, и таким искушением повеяло из вечерней долины, что молчаливые слезы невольно закапали на пол. — В коллектив пойду!
— В коллектив? Это комсомольский соз? — перепугалась Марийка и беспомощно замолчала, не зная, что сказать дочери.
С Бондарихой такое не часто случается.
За эти дни лицо Югины вытянулось, стало таким прозрачным, что аж отсвечивало синими жилками, увеличились глаза, казалось, что голубой свет переливался через переносицу, под глазами двумя темно-синимы ободками улеглись тени, усеянные мелкими, как маковое зерно, точками.
Иван попробовал закинуть дочери слово о Дмитрии, но она и на него рассердилась, поэтому решил не вмешиваться в бабские дела.
— Хе! Пусть себе делает как сама знает, — сказал Марийке, — а то потом, если что, будет весь век нас упрекать.
— Весь век будет благодарить. Попомнишь мое слово! — стояла на своем жена, и муж вынужден был отступиться.
— Сам черт в ваших делах шею сломит. Я вам и не судья, и не советник.
— Что ты за отец! Пригрозить ей не можешь? — наседала Марийка.
— Если бы она лежала поперек скамьи — мог бы, а теперь, когда и вдоль едва поместишь, — не принудишь. И оставь ее в покое.
— Пока не увижу за Дмитрием — поедом буду есть.
— Гляди, чтобы не подавилась. Она тихая, тихая, а косточка твоя сидит. — И уходил к своим созовцам. В коллективной работе он понемногу забывал домашние распри и не понимал, сколько можно толочься над выбором и почему Югина не хочет пойти за Дмитрия.
С годами, когда забывается давно остывшая любовь и только иногда даст о себе знать неясными обрывками воспоминаний, пожилые люди не понимают молодежи. И странными выглядят им густой румянец от одного взгляда и стыдливость от обычного слова, которое для влюбленных кажется грубым, отвратительным, как прикосновение лягушки; и нетерпеливое ожидание воскресенья с танцами и желанными встречами; и волнение, и выбор милого, что всем, видно, уступает перед другими. И тогда старость пожимает плечами, кивает головой, бубнит умные наставления, считая, что только она знает жизнь. А спросите, что она несколько десятков лет тому делала. И все ли тогда решалось опытом и умом?
В самом деле, юность — что речка в паводок, разольется на четыре брода, конца-края не видно, промывает отборные звезды, лунным мостиком перекидывается от берега к берегу; чья-то песня над ней плывет и не ломоть ли серебра разрезает весло в молодых руках, еще и капает искристыми бусами на певучий плес… А там, гляди, скользнут по золотому мосту тучи, разрежут его, закроют, воды войдут в берега — и куда те гнезда звезд деваются; и по черной реке молча проплывет согнутый рыбак, а туманы, седые, как борода его, сомкнутся бесшумно за лодкой, только где-то далеко-далеко заскрипит весло, как давнее воспоминание.
С полудня сыпнул мелкий холодный дождик.
Руки Югины задубели и едва шевелились в вызревшем просе. Поле подернулось серой безотрадной сеткой. Сизой темнотой заклубился Шлях, и ветер быстро разметал дымчатые тучи, и общипанное, без лучей, солнце испуганно выскочило на грязно-синюю поляну, покатилось ночевать в лес.
Таки не дожала постати [34]; сложила снопы в полукопну и тихо пошла в село. Вечер менял очертания полей, дороги, и удивительно изменялся закат; вот он стал зелено-голубым, дальше чьи-то руки начали опутывать синь огнистыми нитями и скоро золотые архипелаги поплыли над потемневшими лесами. Между липами стало темнее. Мокрые листья прилипали к босым ногам, и спросонок шелестело что-то такое знакомое и тоскливое.
Вздохнула — нелегко было возвращаться домой в укоры и грызню. И пусть что хочет делает мать — не будет по ее. А Григорий тоже хороший — наговорил, растравил сердце — и на глаза не появляется. Такая твоя любовь неверная. Что же, она все, все претерпит, в девках поседеет, но, назло матери, добьется своего. Однако горькое сожаление охватило ее, ощутила, как томно взмокло тело… Не потому, что Дмитрий плохой, нет, только поперек матери ни за что не пойдет за него.
— Югина!
Радостный испуг, как порыв ветра, охватывает девушку с ног до головы. А уже навстречу ей приближается и закрывает свет такое дорогое лицо, черные волосы, душистые губы; руки касаются ее плеч, обвиваются вокруг гибкой талии, и поцелуй закрывает ее уста.
— Ты что, с ума сошел? — нерешительно отталкивает от себя и испуганно осматривается вокруг. — Еще люди увидят.
— И пусть видят, — тянется Григорий к ней. Их глаза встречаются в одной счастливой улыбке.
— Уже думала, что забыл за меня.
— И не говори, — прижимает к себе Югину, опираясь спиной на узловатую развесистую липу. — Только теперь понял, как я люблю тебя, — и аж покраснел от стыда, вспомнив Федору.
— Э?
— После того спора места себе не мог найти. Это раньше все было простым и понятным: есть у Бондарей дочь Югина, она меня любит, я — ее, зимой поженимся… И вдруг будто оборвалось что-то. Сяду есть — хлеб из рук падает, начну работать — в глазах ты стоишь, вечером подойду к твоему окну — сам себя проклинаю, и снова возвращаюсь домой, разбитый, будто две копы смолотил.
— А кто же тебе виноват? — отклонилась назад, взглянула на дорогу и на парня. Красивое, успокоенное лицо, освещенное вечерним сиянием, было золотисто-смуглым, однако сумраки меняли небо и такие знакомые черты начали укрываться тенями, чернеть.
— Дмитрий заходил после того? — прижал девушку и пытливо глянул в глаза.
— Приходил.
— Он так или на самом деле?
— Кто его знает, — вздохнула и сразу завяла, вспомнив, что ее ждет дома. — Боюсь, Григорий, что не ради шутки приходил, хотя и не говорил со мной он. — Не хотела сразу говорить всего, чтобы не досаждать и себе, и любимому.
— Если на самом деле, — плохо наше дело. Знаю, его спроста не спихнешь с дороги, — призадумался Григорий и будто забыл про девушку.
Опустил голову, и буйная шевелюра закрыла все лицо. Ветер свистнул в прореженных ветвях, пошевелил под ногами листву и покатился вдоль рва в холодную безвестность. Низко гудела дорога, а трухлявые дупла старых деревьев дышали прелью и затхлым пьянящим теплом, к которому уже начинала подбираться осень.
— Что же, Дмитрий, — оторвал Григорий руку от лба, и Югина не могла в темноте разобрать черты его лица, — были мы наилучшими друзьями. Если же встал на дороге — обижайся на себя.
— Страшно мне, Григорий. Пошли домой, — прижалась девушка к нему. И Григорий поцелуем успокоил ее.
XXXVІІІ
Волнуясь, Дмитрий облокотился на ворота, голову повернул к освещенному, завешанному занавеской окну. Тяжело было идти в хату: знал, что, едва отворит дверь, встретит грустно-напуганный взгляд, и потом весь вечер Югина будет прятать лицо от него, молчать, равнодушно отвечать на вопрос Марийки. Как никогда, страдала его непокорная гордость. Иногда становился сам себе противным, тем не менее не мог и не хотел переломить себя — сойти с той трудной дороги. Упрямство глушило доводы разума. Хмуро просиживал вечер у Бондарей и без слов прощался с девушкой, когда та, по обычаю и по немому велению матери, должна была выходить за ним в сени.

























