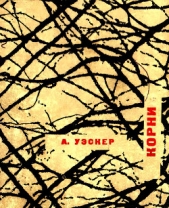Колесом дорога

Колесом дорога читать книгу онлайн
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
— До чего ж ты надоел мне, Махахей, рота уже трижды поменялась. а ты все, как девка, нетронутый, нераспечатанный, ни разу ведь далее ранен не был?
— Так точно, товарищ лейтенант, ни разу, везет.— Везет... А другим вот не везет. Сколько у тебя за эту неделю вторых номеров сменилось?
— Трое, товарищ лейтенант, двоих убило, один ранен.
Махахей был пулеметчиком, первым номером от самого Смоленска. От Смоленска будто заговорили его. И под танком был, и землей засыпало, и контузило, а дырки, отметины никакой. Во вторые номера из роты уже и боялись идти к нему, все из пополнения ставили. И было Махахею неловко перед своими вторыми номерами. Неловко и перед ротным, что он такой везучий, вечный. Он уже поверил сам в свою вечность.
— Пойдешь в разведку, Махахей, за «языком»,— сказал ротный,— посмотрим, действительно ли ты заговоренный.
— Есть в разведку,— и начал собираться за «языком», хотя собирать особенно было нечего, голому одеться — только подпоясаться. Но пошли дружки-солдатики, начали подносить, делиться всем, что у кого было. Тот сухарик, тот махорку, ножик-финку. Сочувствие какое-то образовалось у солдат к нему. Он думал, радоваться будут, что не им выпало идти за «языком». А они жалели его. И, больше того, хотели идти к ротному просить, чтобы отменил он свой приказ, потому как нельзя ему, Махахею, погибнуть, не положено, примета дурная для всей роты. Махахей сначала принимал подношения с радостью, с радостью слушал разговоры: а ну как вправду повезет ему и на этот раз, уговорят ротного. Но, когда его же второй номер, с которым ему предстояло идти за «языком», достал из кармана кисет из ситца в горошек, сшитый и подаренный ему дочерью перед уходом на фронт, обиделся, и обиделся смертельно:
— Вы что, моей смерти желаете, на смерть обряжаете? Забирайте свои манатки. Я вернусь...
Но, по правде, он до самого конца, пока не переполз «нейтралку», не верил в свое возвращение. И только когда переполз, когда увидел перед собой того немца, унтера, как две капли воды опять же схожего с Барздыкой, с тем немцем, который брал его в плен под Князьбором, под хатой, поверил: черта с два что с ним случится, жить будет, в зубах, но доставит немца к своим. Минуту-другую Махахей и унтер смотрели друг на друга. Махахей с тайной надеждой, что вспомнит его немец и дрогнет. Но тот, видимо, не вспомнил, сторожил его глазами, ловя мгновение, когда можно будет ухватить «шмайсер» и разрядить его в Махахея. Махахей не дал ему дотянуться до автомата, немец только скребанул по нему ногтями, а Махахей уже руки ему на горло. До «шмайсера» немец не дотянулся, а ножик из-за голенища успел выхватить. И хорошо, что Махахей был в бушлате. Ножичком немей вспорол ему рукав, содрал шкуру. И тут подоспел, навалился второй номер, Ефим Теляков из Нежина... Так в гости друг к другу ни Теляков, ни Махахей не выбрались. Все собирались, да так и не собрались. Умер уже Теляков. Из разведки вернулся живым, живым дошел до конпа войны. Вышел на пенсию в своем Нежине, раз только и успел получить ее. Махахей откладывает конверт с адресом Телякова в сторону, А вот Быличу он напишет. Былич жив, работает на железной дороге в Сухиничах, это где-то под Калугой. Овраги там большие, а леса нет. Хорошие люди живут, душевные, если судить по Быличу. Каждый год Былич аккуратно поздравляет его с Девятым маем. А тогда когда он, Махахей, вернулся с «языком», чуть не расплакался, целовать его кинулся, прощения просить стал, чудак-человек.
— Я уже поминки по тебе справляю, Тимох... Ты прости меня, прости.
— И вы меня простите,—потупился Махахей, потому что не знал, что сказать и как ответить.
— А ты за что у меня прощения просишь, Тимох? Чем провинился?
— Не знаю,— сказал Махахей,— может, подумал что не так, посмотрел когда не так. Все бывает — ах, ты...— только и ответил ему Былич. Былич и написал эту статью «Геройский подвиг рядового Махахея». Двадцать пять строчек ровно вместе с подписью: «С. Былич, командир роты, гвардии лейтенант». И сейчас Махахей писал ему. Одну открытку заполнил первомайскую, поздравил своего командира с Первым мая. Принялся выбирать другую, чтобы сразу поздравить и с Девятым. За писание Махахей садился редко, но если уж садился, то надолго, на полгода вперед, учтя все праздники и даты. Для этой цели и накупал сразу кипу открыток, чтобы заполнить их впрок, никого не обойти, не обидеть. Жизнь его шла без каких-либо особых событий: весна, лето, сев, сенокос, уборка. Но про это он даже не писал, кому интересно, отсеялся он или убрался. «Живем хорошо»— и это вбирало в себя все. «Здоровье хорошее»— и это тоже служило уже само по себе свидетельством того, что он еще топает и будет топать дальше. «Желаю и вам здоровья и большого семейного счастья. Деревня Князьбор, Тимох Махахей».
Он пожелал Быличу большого семейного счастья в честь Первомая, а потом и в честь Девятого мая. Разогнался пожелать и в третий раз, но открыток с Седьмым ноября, с грозной «Авророй» у него не оказалось, все уже вышли, а .те, что были, с коротеньким, просто так «Поздравляю» и с синими и голубенькими цветочками, не солидно как-то: командиру — и цветочки. К тому же открыток могло не хватить. И девок надо было своих не забыть. Махахей раскинул оставшиеся у него картинки веером, принялся сортировать, выбирать, кому какую предназначить. Кому Кремль заснеженный с часами и еловой веткой, кому те же цветочки, а кому и зайчика-барабанщика — дочерям, те не обидятся. Не смущался, что эти зайчики-барабанщики выпадают каждой дочери по два, а то и по три раза, пока один праздник пройдет, а второй настанет, они уже забудут, чего им присылал. И дочерям он будет отправлять не почтой, не письмом, а посылкой. Шмат сала, круг домашней колбасы, гарбузиков жменька, компоту мешочек, а сверху уже открытка: «И большого семейного счастья. Деревня Князьбор, Тимох и Ганна Махахей, ваши батьки». Баба его Ганна лежала сейчас на печи и делала вид, что спит, но он слышал ее, не спала, а как бы водила сейчас его рукой, выписывала вместе с ним буковки. Работали в стене точильщики, подпевал им, крутился, выщелкивал копейки электросчетчик, притаившись, спал под столом запущенный на ночь в хату кот. Забирало молодым морозцем оконное стекло. Время уже поворачивало на весну. И перо скрипело радостно: как бы то ни было, весна, не зима.
Врастяжечку бормоча полюбившегося ему Есенина, он заполнял открытку за открыткой, светло и радостно выводил в конце каждой: «И большого семейного счастья». И песня слышалась ему в самом деле, песня шпачка-скворца. Бусла сегодня он так и не видел, а вот шпачка углядел. Ходил, чтобы посмотреть на него, далеко, а он был рядом, сидел на его, Махахея, усохшей черемухе и чистился, перышко за перышком обласкивал, наводил блеск.
— Шпаки уже прилетели,— будто подслушав его, сказала, не отрывая взгляда от богородицы, старая Махахеиха.
— Кали, кали они прилетели? — поднялась, села на печи, свесив вниз босые ноги, Ганна.
— Сёння и прилетели.
— Ты ж с хаты сёння не выходила, мама.
— Не выходила, а ведаю, чую... У гэтым годе я еще скворцов убачу, а на будучи ужо не придется на их поглядеть.
Махахей хотел было накричать на старую, чтобы не брала в голову чего не надо, но не мог разжать губ. Она знала, понимала больше, если, не выходя из хаты, углядела скворцов. У него были свои заботы: чем заменить то усохшее дерево, черемуху. Не простое ведь было дерево, а вроде бы как для скворцов. В апреле они собирались на нем со всей деревни, может, и из соседних деревень прилетали. Собирались и как свадьбу правили или совет держали. День-деньской елозили и кричали, а к вечеру улетали. И это дерево его служило им как бы посаженной матерью или отцом, как служили буслам бывшая Болонь и его, Махахеев, дубняк, жаворонкам — озерцо Весковое.
Словно эта капля воды, клочок земли, одно-единственное дерево, кусты да лес и были для них и отчим краем, и отчим домом. Скажи кому, не поверят. Но он видел сам. Про необычность его черемухи, дубняка знает вся деревня. Только многие уже присмотрелись и не замечают, что Весковое облюбовали жаворонки. Тоже со всей округи, чуть только припечет солнце и оттает земля, слетаются туда, будто озерцо то, блюдце криничной воды благословляло их плодиться и множиться и беречь его, беречь землю, клочок ее, на котором они увидели белый свет, стали на крыло и познали небо. И жаворонки как клятву давали на Весковом, отпивали из него по глотку воды и, захмеленные этой водой, день пели ему свои песни, а к вечеру исчезали до будущего года. Сейчас же исчезло само Весковое, не стало больше буслов, черемухи, шпаков. Буслам и жаворонкам Махахей помочь не мог, неподсильно было сотворить ему новое Весковое и новую Болонь, но дерево посадить он мог. Примут ли только то дерево скворцы, признают ли его, будет ли прочно их семейное счастье на новом дереве?