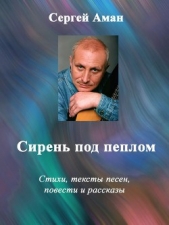Капитан Кирибеев. Трамонтана. Сирень
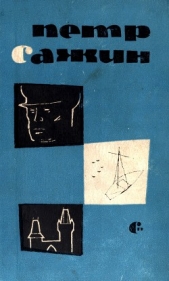
Капитан Кирибеев. Трамонтана. Сирень читать книгу онлайн
В книгу Петра Сажина вошли две повести - «Капитан Кирибеев», «Трамонтана» и роман «Сирень».Повесть «Капитан Кирибеев» знакомит читателя с увлекательной, полной опасности и испытаний жизнью советских китобоев на Тихом океане. Главным действующим лицом ее является капитан китобойного судна Степан Кирибеев - человек сильной воли, трезвого ума и необычайной энергии.В повести «Трамонтана» писатель рассказывает о примечательной судьбе азовского рыбака Александра Шматько, сильного и яркого человека. За неуемность характера, за ненависть к чиновникам и бюрократам, за нетерпимость к человеческим порокам жители рыбачьей слободки прозвали его «Тримунтаном» (так азовские рыбаки называют северо-восточный ветер - трамонтана, отличающийся огромной силой и всегда оставляющий после себя чудесную безоблачную погоду).Героями романа «Сирень» являются советский офицер, танкист Гаврилов, и чешская девушка Либуше. Они любят друг друга, но после войны им приходится расстаться. Гаврилов возвращается в родную Москву. Либуше остается в Праге. Оба они сохраняют верность друг другу и в конце концов снова встречаются. Для настоящего издания роман дополнен и переработан.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
После обеда Занятов стал вдруг грустным.
— Что с вами? — спросила Лариса.
— Ничего, — сказал он и тяжело вздохнул. — Завидую вам, что вот вы счастливы, и много видели, и еще больше увидите. А я, — он махнул рукой, — я тоже хотел, думал, надеялся быть счастливым. А вот живу, как неодушевленный предмет…
— Ой, что вы! — воскликнула Лариса. — Вам грех жаловаться, у вас такой талант!
— Да? — спросил он. — Вы уверены в этом? Талант? Зайдите в Эрмитаж, Русский музей, а когда будете в Москве, непременно загляните в Третьяковку: Репин, Крамской, Серов, Маковский, Саврасов — вот таланты! А это, — он указал на мольберт с его работой, — ремесло, кусок хлеба.
Он неожиданно встал и заторопился. Прощаясь, он надолго задержал свой взгляд на Ларисе. Она смутилась. Я тогда не знал, как к этому отнестись. «Может быть, — думал я, — ему и в самом деле нужно хорошенько изучить ее лицо для работы». Он ушел такой жалкий, сгорбленный.
Когда затихли его шаги на лестнице, Лариса сказала:
— Жалко мне его. Талантливый человек, а, видно, не везет. Он тебе нравится, Степа?
Я пожал плечами.
— Ты чем–то недоволен? — спросила она.
— Нет, чем же мне быть недовольным? Жаль только, что время идет у нас пока как–то без толку.
— Ты что, имеешь в виду это? — показала она на мольберт.
— Нет, — сказал я, — но нам пора бы как–то определиться: не век же жить в гостинице, тут неудобно и дорого.
— Но ты же согласился сам, чтобы он писал тут, в номере?
— Да, согласился. Но сколько это протянется? А мне скучно без дела: я — как баржа на приколе.
Она ничего не сказала и отошла к окну. Я шагал по номеру и курил, прислушиваясь к гулу города.
— Степа! — вдруг позвала Лариса. — Иди, Степочка, сюда!
Я подошел. Она обняла меня одной рукой и тихо сказала:
— Смотри, смотри, какая прелесть!
Город был действительно хорош: он был как рейд. Всюду мерцали огни, автобусы и трамваи вспыхивали, как светляки, на Невском гудела толпа, она неслась широкой, шумной рекой.
— Ты меня любишь, Степа? — спросила Лариса.
И прежде чем я ответил «да», она сняла свою руку с моего плеча, быстро подошла к шкафу, вынула гитару — ту, что я купил ей на Кубе, и сказала:
— Хочешь, спою?
Когда она хотела петь, меня не надо было уговаривать. Мы присели на диван.
Легли мы поздно, оба радостные и, как мне тогда казалось, счастливые.
На другой день Занятов не пришел. Не явился он и на третий. Я злился страшно, а Лариса все «Степочка» да «Степочка». На четвертый день мы встали рано и решили заняться осмотром города. Только хотели уйти, как он явился — виноватый, жалкий. На меня боится смотреть. Бегает глазками–пуговками по стенам либо в пол глядит. Нос красный, как у вареного краба панцирь. Но когда сел за мольберт, преобразился. Он так, черт его подери, работал, что я до сих пор не могу понять, откуда в нем все бралось… Какая–то чудовищная сила была в его кисти.
Целую неделю он работал как бешеный, как говорится, на полный ветер. И вот наступил час, когда он положил кисть, встал и, вытирая со лба пот, сказал:
— Вот, кажется, и все.
Он отошел от мольберта, закурил, кося глазами то на свою работу, то на Ларису, как бы сравнивая, что же лучше — оригинал или копия.
Лариса повисла у меня на плече и не отрывала глаз от портрета.
— Степочка, как хорошо! Я прямо ну как живая! — Затем обращаясь к Занятову: — А вас, Константин Георгиевич, не знаю, как и благодарить.
Он пожал плечами, словно хотел сказать: «Да что уж тут».
Вдруг она оставила меня, как колибри, порхнула к нему, взяла за руку.
— Что вы такой грустный, Константин Георгиевич?
Он и тут ничего не сказал, только сделался еще мрачнее. Лариса подвела его ко мне.
— Мужчины, — сказала она, — а не устроить ли нам хороший обед в знак окончания работы и дальнейшей дружбы?
Не дожидаясь моего согласия, она порхнула к телефону, сказав на ходу:
— Вы пока покурите, а я сейчас.
…Обед был грандиозный — Лариса никогда не считала деньги. Но «Рембрандт» сидел, как палтус, вытащенный из воды: квелый, жалкий. Лариса ухаживала за ним. Оживлялся, лишь когда глядел на нее. Но как только она заговаривала со мной, он опять опускал плавники. Лариса много говорила, то и дело подливала нам вина и сама пила больше, чем следовало. Разве ей можно было пить, с ее голосом? Я намекнул ей, а раз даже остановил, когда она хотела пригубить.
— Степочка, я сама знаю, — сказала она.
Я махнул рукой.
После обеда мы перешли на диван и закурили. Лариса подошла к нам с гитарой.
— Можно мне спеть, Степочка? — спросила она, хорошо сознавая, что спрашивает меня лишь из шалости.
Занятов, увидев ее с гитарой, спросил:
— Вы… вы поете?
— Так, для себя, — ответила она, отошла к окну, тронула струны и задумалась.
Занятов схватил бумагу, карандаш и стал быстро зарисовывать. Лариса заметила это, вскинула голову.
— А вы пойте, пойте, — сказал он.
Лариса была что называется в ударе.
Занятов бросил рисовать, сел поглубже и слушал с раскрытым ртом и горящими глазами. Она пела песни цыган, русские, неаполитанские и грустные–грустные песни Кубы.
Когда Лариса кончила петь, Занятов вскочил с дивана.
— Это замечательно! У вас настоящий талант. Вам нужно на сцену!
Раскрасневшаяся от волнения и похвал, Лариса сидела в кресле и обмахивалась платочком. А «Рембрандт» шагал по номеру и говорил все те слова, которые и я и она слышали уже не раз. Он спросил, что думает делать Лариса. На ее слова, что она хочет учиться, он горячо возразил:
— Зачем? Да вы же готовая певица!
Лариса жадно слушала его. А он, то ероша волосы, то потирая руки, говорил:
— Это не беда, что вас никто еще не знает. Придет время — и Ленинград ахнет! Да, да, именно!
Он предложил свою помощь, говорил, что у него есть друзья в Мариинском театре, назвал имя какого–то дирижера. Я вмешался в разговор и сказал, что слов нет, Лариса поет хорошо, но на сцену ей рано: если добиваться успеха — нужна настоящая школа. Он согласился. Прощаясь, обещал разузнать через каких–то третьих лиц, нельзя ли помочь Ларисе при поступлении в консерваторию.
Когда он ушел, мы долго стояли у окна и смотрели на вечерний Ленинград. Мы оба были счастливы. Нам было хорошо в тот день, и впереди мы видели сплошной праздник.
На другой день «Рембрандт» явился чуть свет. Я был уже на ногах, а Лариса все еще нежилась в постели. Знаете ли, я плохо спал в Ленинграде. Там в то время были белые ночи, и я с непривычки не переносил их. А Лариса словно родилась в Ленинграде. Ну, да ведь и на душе–то у нее было спокойно. Как же, успех окрыляет и вместе с тем успокаивает. Ну вот, значит, явился он и, не успев поздороваться, объявляет:
— Новость! Приятнейшая новость!
Я спрашиваю какая. Он, не раздеваясь, садится на стул и говорит:
— Для вас есть квартира… Да, отдельная и притом чудная квартира… Можно сказать, в одном из лучших районов: два шага от Невы.
— Это где же? — спросил я, словно знал Ленинград как свои пять пальцев.
— Косую линию знаете?
Я покачал головой.
— А о Васильевском острове слышали?
— Так, в общих чертах, — сказал я.
Он хотел что–то еще сказать, но в это время проснулась Лариса и спросила:
— С кем это ты, Степа?
— Это я, Лариса Семеновна, — сказал Занятов. — Простите, что нарушил ваш покой.
— Константин Георгиевич? — спросила она.
— Я! Я! — ответил он, а сам так и подпрыгивает.
Занятов не дал нам даже позавтракать. Мы сели в трамвай и поехали на Васильевский остров. Трамвай шел долго, визжал на крутых поворотах. Потом выскочил на мост, и перед нами открылась Нева. Слева от моста, у набережной Лейтенанта Шмидта, покачивались корабли и рыбачьи лайбы. При виде широкой реки и корабельных мачт меня неудержимо потянуло в море, и от сознания того, что я болтаюсь без дела, стало грустно. К сердцу прихлынула злоба на себя, на Ларису и на этого чертова «Рембрандта», из–за которого я целую неделю нигде не был, ни с кем не говорил и ничего не сделал для того, чтобы куда–нибудь определиться.