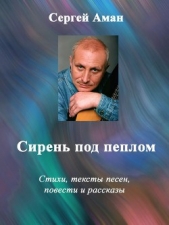Капитан Кирибеев. Трамонтана. Сирень
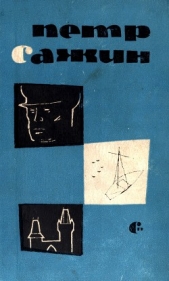
Капитан Кирибеев. Трамонтана. Сирень читать книгу онлайн
В книгу Петра Сажина вошли две повести - «Капитан Кирибеев», «Трамонтана» и роман «Сирень».Повесть «Капитан Кирибеев» знакомит читателя с увлекательной, полной опасности и испытаний жизнью советских китобоев на Тихом океане. Главным действующим лицом ее является капитан китобойного судна Степан Кирибеев - человек сильной воли, трезвого ума и необычайной энергии.В повести «Трамонтана» писатель рассказывает о примечательной судьбе азовского рыбака Александра Шматько, сильного и яркого человека. За неуемность характера, за ненависть к чиновникам и бюрократам, за нетерпимость к человеческим порокам жители рыбачьей слободки прозвали его «Тримунтаном» (так азовские рыбаки называют северо-восточный ветер - трамонтана, отличающийся огромной силой и всегда оставляющий после себя чудесную безоблачную погоду).Героями романа «Сирень» являются советский офицер, танкист Гаврилов, и чешская девушка Либуше. Они любят друг друга, но после войны им приходится расстаться. Гаврилов возвращается в родную Москву. Либуше остается в Праге. Оба они сохраняют верность друг другу и в конце концов снова встречаются. Для настоящего издания роман дополнен и переработан.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Я смотрел на Смольный, а перед мысленным взором возникали горящие костры, сизый дым махорки, серые папахи солдат, тельняшки и бескозырки матросов Балтики, кожаные фуражки питерских рабочих, говор, треск мотоциклов, слова команды…
Словом, я как бы перенесся через горы лет и забыл обо всем. По дороге к гостинице я молчал, словно разговором боялся спугнуть то, что предстало перед моим мысленным взором. А Лариса ничего не поняла. Ее восхитил внешний вид этих действительно великолепных и неповторимых зданий, а то, что тронуло мою душу, ее не коснулось. Она без умолку щебетала и все спрашивала:
— Что с тобой, Степа? Уж не заболел ли ты? Скучаешь по Дальнему Востоку?
Ну, что я мог сказать ей? Чтобы не вызывать лишних и никчемных расспросов, сказал:
— Да, скучаю.
За обедом она немного выпила. Вино возбудило ее, и она то кокетничала со мной, то вполголоса подпевала оркестру, то с жаром говорила о том, какие мы с ней молодцы, что уехали с Дальнего Востока, что здесь у нас наконец пойдет настоящая жизнь, что Приморск дыра, а Ленинград величайший культурный центр, что вот так, как мы сейчас живем, — это и есть настоящая жизнь.
— Знаешь что, Степочка, — говорила она, — давай пока никуда не устраиваться. Осмотрим весь–весь Ленинград, все его сокровища, а когда надоест — будем устраиваться… — Потом она говорила, что очень любит меня, просила, чтобы я забыл все, что было там, на Дальнем Востоке. Говорила, что она взбалмошная, а я настоящий человек, но что она никогда больше не будет делать мне гадостей, что, когда мы осмотрим город, она пойдет учиться в консерваторию, а я, если мне захочется, на корабль…
Когда мы поднялись к себе в номер, она присела на диван, хотела что–то сказать, но на полуслове отвалилась на спинку и мгновенно уснула. Я отошел к окну. С улицы доносились шум трамваев, гудки паровозов с Октябрьской дороги — волнующий гул большого города.
Я растворил окно и, облокотившись па подоконник, думал: хорошо ли, правильно ли я сделал, что приехал сюда, бросив любимое дело? Что ждет меня здесь? Сойдутся ли наконец наши интересы?
Время от времени я смотрел на Ларису. Она была похожа на ребенка, который набегался, нашалился и заснул там, где приткнулся. Иногда она ворочалась, морщила лоб, чмокала губами и прерывисто дышала. Что беспокоило ее? Какие мысли одолевали?
Я спрашивал себя: а правильно ли я поступаю, что ничего не делаю для того, чтобы как–то влиять на ее сознание, ее вкусы, на ее помыслы и стремления? Почему я все пустил в дрейф? Ну хорошо, она красива, порой заботлива, нежна, но порой как же пуста!
В полночь я лег, решив, что, может быть, здесь, на новом месте, когда у нее и у меня будет дело, наша жизнь и вправду наладится…
Спал я плохо — никак не мог привыкнуть к разнице во времени: ведь когда мы ложились спать, по дальневосточному нужно было уже вставать. Но Лариса приспособилась быстро. Ей нравилась жизнь в гостинице, она любила шум большого города, быструю смену впечатлений.
— Знаешь, Степа, — говорила она, — не пойму отчего, но я так люблю жить в гостинице! Движение людей, телефонные звонки, горничные, лифты, неожиданные встречи — все это так волнует меня.
На следующий день после завтрака мы отправились на Сенатскую площадь. Около памятника Петру Первому священнодействовали фотографы, а у ограды Александровского садика раскинули свои мольберты художники. Мы сфотографировались на память — сначала на фоне Сената, потом с видом на Исаакиевский собор, и только хотели уйти, как вдруг около нас очутился какой–то красноносый, низкорослый человечек в черном пальто, в мятой, видавшей виды шляпе и в пенсне.
— Приезжие? — спросил он.
— А что, это видно? — сказал я.
— Как же, — ответил он, — местные жители редко ходят осматривать достопримечательности… А приезжие жадны.
Лариса дернула меня за рукав и сказала:
— Пойдем, Степочка.
Но меня этот тип чем–то заинтересовал. Потом я проклинал себя за то, что задержался с ним. Он снял пенсне, потер нос и, прокашлявшись, сказал:
— Но жизнь всегда короче надежды: многие местные жители так и не успевают осмотреть достопримечательности своего города. Между прочим, не желаете ли портретик, так сказать, на память? Можно на фоне Сената или Адмиралтейства, а хотите, и тут, около «Медного всадника». А?
Предложение этого маленького человечка вызвало у меня неприятное чувство. Он, очевидно, заметил это и вдруг весь преобразился — в его лице появилось достоинство, он выпрямился и сказал обиженным тоном:
— Вы, наверное, меня неправильно поняли? Я сам буду писать, вон мой мольберт!
Он указал на одиноко стоявшие треногу, раскладной стул и коробку этюдника.
— Между прочим, — сказал он так, будто забыл сообщить самое главное, — не бойтесь, задержу недолго, возьму недорого!
Я хотел отказать ему и уже взял было под руку Ларису, как вдруг она спросила:
— А маслом вы можете написать портрет?
— Маслом? — спросил он, задумавшись, словно решая, стоит ли ему возиться и сумеем ли мы заплатить как следует. — Маслом? — переспросил он и вдруг быстро заговорил: — Да, конечно, могу… Могу гуашью или пастелью, как вы хотите… Сам я, правда, больше люблю акварель. Акварель дает сочные тона и прозрачность, она как бы излучает свет, то есть дает аромат жизненности… А масло — масло хорошо для монументальной живописи. Но если хотите, я к вашим услугам, А где писать вас? У меня, видите ли, нет своей мастерской…
— А если у нас? — сказала Лариса. — У нас в номере, в гостинице?
— Отлично! — сказал он. — Когда можно приступить к работе?
— Завтра, — сказала Лариса и, взяв меня под руку, назвала художнику гостиницу и номер. Когда мы отошли к Исаакию, она повисла на моей руке и прошептала: — Ты не сердишься?
Я сказал, что сердиться не сержусь, но напрасно она это затеяла: зря время потратим.
Лариса сжала мне руку:
— Ох, Степочка, какой же ты у меня хороший! Как я тебя люблю, если бы ты знал!
К сожалению, я не мог тогда предполагать, что встреча с бродячим художником будет иметь для нас тяжелые последствия.
33
На другой день Лариса поднялась чуть свет.
Она прошлась по номеру, словно что–то разыскивая, котом остановилась у окна, раздвинула занавеси и долго глядела на город.
Ленинград пробуждался: с улиц уже слышался глуховатый шум, где–то протяжно выли гудки, от вокзала доносились вздохи паровозов.
Я смотрел на Ларису и не мог понять, что встревожило ее. Почему она так рано поднялась? Постояв у окна, она отошла к зеркалу, рассыпала по плечам волосы и стала их расчесывать… Волосы у нее, профессор, мягкие, длинные, они не растут, а как бы льются, словно шелковые струи. Расчесав и уложив их, она принялась «шпаклевать» лицо. Намажет одним кремом, затем снимет ваткой. После этого накладывает другой. Я не мог понять, зачем она мазалась.
В Ленинграде женщины бледные. Им, вероятно, и нужна была вся эта штукатурка. А ей зачем? Когда она была готова, мы сели завтракать. И за столом она была неспокойна, словно чем–то встревожена, ела плохо.
Я спросил ее, что с ней. Она пожала плечами.
— Так… Ничего… Сама не знаю…
— Ты, может быть, нездорова? — спросил я.
Она покачала головой.
— Нет, я здорова, — улыбнулась она, — ты не тревожься, Степочка, я совершенно здорова!.. Но так, знаешь… грустно что–то мне стало, и спала я плохо…
Она снова как–то через силу улыбнулась и встала из–за стола, посмотрела на себя в зеркало, затем подошла к окну, постояла немного, что–то написала пальчиком на пыльном стекле, повернулась ко мне и спросила:
— Как ты находишь меня, Степочка?
Я ответил ей, что она очень хороша. Она подошла, положила руки мне на плечи, вздохнула, затем прижалась щекой и сказала:
— Я гадкая… За что ты меня только любишь?
Я хотел ответить ей, но в это время в дверь кто–то тихо, словно царапаясь, постучался.
— Войдите, — сказала Лариса.