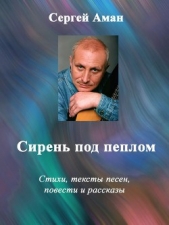Капитан Кирибеев. Трамонтана. Сирень
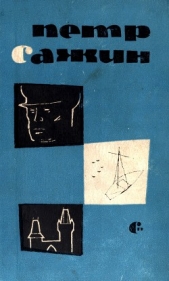
Капитан Кирибеев. Трамонтана. Сирень читать книгу онлайн
В книгу Петра Сажина вошли две повести - «Капитан Кирибеев», «Трамонтана» и роман «Сирень».Повесть «Капитан Кирибеев» знакомит читателя с увлекательной, полной опасности и испытаний жизнью советских китобоев на Тихом океане. Главным действующим лицом ее является капитан китобойного судна Степан Кирибеев - человек сильной воли, трезвого ума и необычайной энергии.В повести «Трамонтана» писатель рассказывает о примечательной судьбе азовского рыбака Александра Шматько, сильного и яркого человека. За неуемность характера, за ненависть к чиновникам и бюрократам, за нетерпимость к человеческим порокам жители рыбачьей слободки прозвали его «Тримунтаном» (так азовские рыбаки называют северо-восточный ветер - трамонтана, отличающийся огромной силой и всегда оставляющий после себя чудесную безоблачную погоду).Героями романа «Сирень» являются советский офицер, танкист Гаврилов, и чешская девушка Либуше. Они любят друг друга, но после войны им приходится расстаться. Гаврилов возвращается в родную Москву. Либуше остается в Праге. Оба они сохраняют верность друг другу и в конце концов снова встречаются. Для настоящего издания роман дополнен и переработан.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
— Да, — сказал он глухо и без оживления, — хорошо мы прожили два года. А потом опять понеслась наша жизнь, как тройка, вскачь да под уклон…
Лариса, по совету профессора консерватории, участвовала в конкурсе оперного театра. Выдержала с успехом.
Сначала ей поручали небольшие партии и занимали редко — она еще продолжала учиться в консерватории. Но через год положение ее изменилось из–за одной случайности. Заболела актриса, которая должна была петь партию Кармен, попробовали Ларису, и ее имя появилось на афише. Я хорошо помню то утро. Изморозь, от, Невы пар, с Балтики тянет свежачок. На площади Труда у тумбы — женщина с холщовой сумкой, набитой афишами, рядом с ней — ведро с горячим клейстером. Ведро дымится, пальцы у женщины красные — осеннее утро холодное.
Наклеивает женщина афишу, я читаю и как–то весь поднимаюсь. Партию Кармен поет моя жена! Вы понимаете, профессор, что это значит?
Расклейщица заметила, что я со вниманием читаю афишу, сказала:
— Новая.
Я промолчал. Тогда она сердито добавила:
— Я говорю — новая артистка; если через голос попала в театр — хорошо, а уж по знакомству с режиссером, то Ленинград не примет…
Я удивился.
— То есть как не примет?
— А так… ходить на нее не станет!.. Но, говорят, эта, — она запнулась, — что голосом, что собой — редкая… С Дальнего Востока. И откуда там такие? Говорят, там, как и у нас, туманы — для голоса вред.
Она водила толстым помазком по тумбе, наклеивая новые афиши. Одна из них приглашала на лекцию известного полярника о Великом Северном пути, а другая на лекцию о международном положении, которую читает популярный академик, но говорила женщина о новой актрисе.
В день премьеры я был на ногах с утра и до самого спектакля. Квартирный и телефонный звонки трещали не переставая. Кто только не был у нас: подруги Ларисы по консерватории, фотограф из театра, парикмахер, сотрудники газет.
Не помню, как мы с ней дожили до вечера. Проводив ее за кулисы, я отправился в зал. В театре было все как обычно, но мне казалось, что душно, что на меня все смотрят, что долго не начинают, что публика очень шумно себя ведет. Но вот поднялся занавес, и я замер.
Когда Лариса вышла на сцену, в зале раздался сдержанный шепоток и сотни биноклей устремились на нее. Пела она, по–моему, хорошо. Сочный, звонкий голос ее звучал, как флейта.
Но кончился первый акт — жиденькие аплодисменты. Второй — тоже. Когда шел третий, я почти не глядел на сцену — мне было стыдно. Кругом шепот: «Откуда взяли эту синицу?.. Где Ковалева?» Ковалева — актриса, которую из–за болезни заменила Лариса. Я готов был провалиться. Не помню, как досидел до конца.
Когда кончилось представление, я побоялся идти за кулисы. Я представлял себе Ларису. Опять, думаю, слезы, истерики. Но я ошибся: не было ни слез, ни истерики. Все это было дома, да в таком количестве, что пришлось врача вызывать.
Три дня она пролежала. К ней приезжали из театра, успокаивали, уговаривали, ссылались на какие–то примеры из жизни великих актрис. Но она, кажется, не внимала никому — лежала черная, с провалившимися сухими глазами, искусанными губами и больше молчала. Когда с ней заговаривали, только вздыхала и качала головой.
Из этого состояния ее вывела народная артистка Самборская, бывшая звезда Мариинского театра. Ее привез с собой дирижер, кажется Лобанов. Бодрая, надушенная старушка просидела у Ларисы часа два и заставила встать, одеться — одним словом, поставила на ноги. Как я потом узнал, дирижер этот Лобанов и Самборская несколько раз слышали Ларису еще в консерватории, верили в ее способности и вообще покровительствовали артистической молодежи.
Через три дня после этого Лариса снова выступила в той же роли. Она так волновалась, что я опасался — опять сорвется.
Встретили ее сдержанно. В персом акте ни в пении, ни в игре она не показала себя, действовала выучкой, и я думал, что опять провалится.
Второй акт тоже начала робко и даже как–то скованно. Я опустил голову — мне было больно за нее. Слушали ее плохо — перешептывались, ерзали на стульях.
Но вдруг я заметил, что в зале наступила тишина, а голос Ларисы словно налился соком, стал крепче, увереннее, сильнее. Я поднял голову и все понял: она преодолела страх, расковала свои силы. К концу спектакля все словно с ума сошли. По залу пронесся тайфун — зрители галдели, топали ногами, требовали на бис…
Выбраться из театра было трудно. Лариса очень устала, и я хотел поскорее увезти ее домой. Но этого не удалось сделать: тут налетели какие–то доброжелатели и друзья искусства.
Словом, мы очутились в «Астории». Шампанское, цветы… Мне удалось перед мореходкой поспать лишь два часа. В семь я уже снялся со швартов и самым малым ходом затопал к училищу. Лариса даже и бровью не повела, когда я уходил: она устала, да и шампанское свое дело сделало.
С этого дня началась у нее новая жизнь. Первое время все мне было интересно. Я ходил на каждый спектакль, в котором участвовала Лариса. Но вскоре как–то незаметно и как бы само собой сложилось так, что мы стали жить разной жизнью: у меня день в мореходке, у Ларисы утром репетиция, а вечером спектакль. Вот в это время ее и окружили околотеатральные люди. Как они пробрались в наш дом, кто они, я не имел понятия. Но то, что это люди ловкие, было видно, как говорится, и невооруженным глазом. Для них в жизни не существовало никаких препятствий: они могли достать любую вещь — от французских духов «Коти» до роскошной антикварной мебели.
Они вскружили голову Ларисе похвалами ее таланту, принесли в наш дом излишнюю суету, ажиотаж и всякую такую чертовщину и как–то незаметно оттеснили меня от Ларисы и завладели ее душой. Словом, получилось по пословице: «Был бы мед, а муха прилетит и из Багдада». Я оказался в стороне. Приходил из мореходки поздно, усталый, ее дома уже не заставал, в театр идти не хотелось.
Она все реже и реже приглашала меня с собой, а уходя из дому, говорила: «Я скоро», или: «Не сердись, зовут ведь только меня». Потом стала мне говорить: «Пока», или: «Я позвоню», а то и просто: «Обедай без меня». Когда же нам случалось бывать вместе, то и в эти дни нас не оставляли одних: то приходили гости, то телефон без умолку трещал. Стоило подняться на звонок, как она тут же вскакивала: «Это меня… Ты сиди, Степа!»
Говорила она долго, утомительно. Разговоры чаще всего были необязательные.
Несколько раз я пытался серьезно поговорить с ней. Несколько раз предупреждал, что ее окружение портит нашу жизнь, что эта среда, как подводное течение, медленно сносит нас с правильного курса. Но где там!.. Она была словно слепая. Считала, что я стал стареть, что ничего не понимаю и так далее. Без конца поучала меня, то не так вилку или ложку держу, то хлюпаю, когда борщ ем…
Вскоре я заметил, что она стала стыдиться меня в обществе своих гостей, словно боялась, что я не то или не так скажу. Всякий раз, как только я хотел что–нибудь сказать, она спешила остановить меня.
Сначала я думал, что все это мне кажется из–за какого–то обостренного отношения к ее поступкам, а потом понял: дело тут не в обостренном восприятии ее поведения, нет! Дело глубже. Очевидно, настала пора для серьезных выводов. Но я тянул. Ведь я, профессор, очень любил Ларису!
Но у всякого дела есть конец… Как–то я сказал ей, что нам надо поговорить. Она сидела у трельяжа и массировала кожу под глазами.
— О чем?
— О наших отношениях.
— Что ж, — отвечает, — говорить о них? Разве я тебе мешаю?
После этих слов я понял, что пора выбирать якоря, пора подумать о своей судьбе. Я стал все чаще уходить из дому. Я очень люблю один из замечательных уголков Ленинграда — набережную за мостом Лейтенанта Шмидта.
Тут живут старые моряки, которые помнят первые дни ледокола «Ермак» и адмирала Макарова. Заслуженные водолазы, лоцманы, штурманы, капитаны.
Выйдешь на набережную — так и застынешь: идет седой моряк с папкой под мышкой, навстречу ему — школьник. Глянешь на Неву — баржи, катера, шлюпки. Мощный буксир, захлебываясь, тянет корпус нового корабля. Тросы натянуты, гудят, ветерок в вантах свистит, белый пар из контрапарника, как пена у коня, скидывается в воздух… Глянешь на мост Лейтенанта Шмидта — машины, трамваи, пешеходы. Всюду люди, везде труд, все заняты, у всех дело. Так хорошо, так чудно и счастливо кругом!