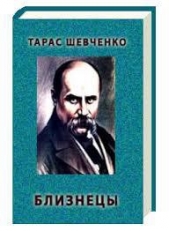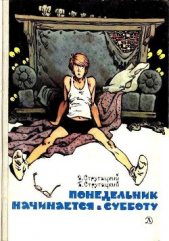Понедельник - день тяжелый. Вопросов больше нет (сборник)
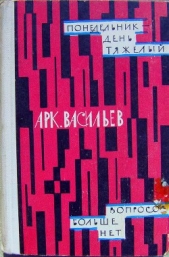
Понедельник - день тяжелый. Вопросов больше нет (сборник) читать книгу онлайн
В сатирическом романе «Понедельник — день тяжелый» писатель расправляется со своими «героями» (бюрократами, ворами, подхалимами) острым и гневным оружием — сарказмом, иронией, юмором. Он призывает читателей не проходить мимо тех уродств, которые порой еще встречаются в жизни, не быть равнодушными и терпимыми ко всему, что мешает нам строить новое общество.
Роман «Вопросов больше нет» — книга о наших современниках, о москвичах, о тех, кого мы ежедневно видим рядом с собой. Писатель показывает, как нетерпимо в наши дни равнодушие к человеческим судьбам и как законом жизни становится забота о каждом человеке.
В романе говорится о верной дружбе и любви, которой не страшны никакие испытания.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Зойку, вернее Зою Юрьевну, я встретил днем в парке культуры и отдыха. Около нее в песке возилась прелестная девочка. Я, обрадованный встречей, начал нахваливать ребенка:
— Вся в отца.
Зоя Юрьевна засмеялась:
— Портрет!
— Как зовут?
— Надя, Наденька. Надежда Васильевна Каблукова. Вот он, мой неразменный миллион. Идем, Наденька, домой. Скоро папка с завода придет, да и бабушка, наверное, волнуется…
От Зои Юрьевны я узнал о Якове Михайловиче Каблукове.
— Он после той катастрофы долго переживал, месяца два молчал — ни с кем ни слова. Еле отошел. Елена Сергеевна в Москву его возила, к профессору.
Яков Михайлович сейчас председатель артели «Абажур». Само название говорит о том, какую продукцию артель выпускает.
Я долго подбирал повод для посещения председателя «Абажура», но потом решил — не буду хитрить, зайду просто. Но это оказалось не так-то легко.
Секретарь, охранявшая обитую клеенкой дверь, прежде чем доложить о моем приходе, тщательно расспросила, какое у меня дело к товарищу Каблукову.
— Никакого. Я его старый знакомый.
— Странно…
Яков Михайлович все же принял меня и даже улыбнулся:
— Извините, я должен по телефону поговорить.
Он с кем-то долго спорил по поводу плохого качества проволоки, а я тем временем осматривал его кабинет. Был он невелик, но все в нем было как положено: письменный стол, поперечный, радиоприемник, несгораемый шкаф, книжный шкаф с шелковой занавеской, высокий торшер с огромным, как пляжный зонт, абажуром и шелковые шторы красного цвета. После взаимных расспросов: «Как живете? Как здоровье? Как семейство?» — говорить было уже не о чем. Яков Михайлович нетерпеливо забарабанил пальцами по стеклу письменного стола. Я понял: пора уходить.
Пожимая мне руку, Яков Михайлович левой нажал звонок. Впорхнула секретарь. Каблуков приказал:
— Пригласите ко мне весь аппарат!
— Уже пришли…
В крошечной, метров в пять, приемной сидели три человека. До меня донеслось:
— Заходите, товарищи! Заходите…
Вскоре я улетел из Краюхи. Мне еще раз повезло — рядом в кресле оказалась милая Анна Тимофеевна, с которой накануне мы были вместе у Марьи Антоновны Корольковой.
Анна Тимофеевна почти не изменилась. Те же ясные глаза, та же славная улыбка. В Москву она летела по вызову своего кооперативного начальства.
День был отличный. Видимость изумительная.
Под нами проплывала земля. Анна Тимофеевна рассказывала о своих детях,
— Парень кончает школу, а доченька в шестой переходит. Время-то как летит…
Удивительное, уютное спокойствие исходило от Анны Тимофеевны.
Внизу бежала земля, мягко освещенная розовым утренним солнцем.
Интересно на этом свете, товарищи!
ВОПРОСОВ БОЛЬШЕ НЕТ
(роман)

КАЖДЫЙ ЧЕТВЕРГ

О возрасте лучше не думать. Я помню, как мама говорила: «Кто много думает о возрасте, тот не успевает жить». Она говорила резче: «Кто много думает о смерти…» Ничего не поделаешь, когда-то это придет и ко мне, но сейчас я не хочу думать. Я очень люблю жизнь! Даже мой Мишка в домашнем сочинении написал, что мама у него жизнелюб и жизнеутверждающая личность. Правда, за сочинение он «схлопотал» тройку, так как не смог объяснить учителю литературы Герману Степанычу, что это такое — жизнелюб. Я знаю, откуда Мишка взял эти слова. Зашел к нам как-то брат мужа — Иван Петрович. Это от него мой Мишка услышал, что я жизнелюб и жизнеутверждающая личность.
Иван Петрович меня не любит. Я это чувствую. Впрочем, назвать человека, которого бы Иван Петрович любил, очень трудно, по-моему, таких людей нет вообще. Стоит кому-нибудь, и особенно мне, в присутствии деверя сказать о человеке хорошее, как он сразу безапелляционно произносит:
— Ерунда! Подлюга!..
Самые мягкие слова у него: карьерист, подхалим каких мало, выскочка.
Иван Петрович не может долго сидеть на одном месте. Даже обедая, он вскакивает из-за стола и начинает быстро-быстро ходить по комнате. Однажды он появился у нас к вечернему чаю. Мы все, и Алеша и дети, очень любили эти спокойные часы — разговариваем обо всем на свете, смотрим телевизор. Теперь таких вечеров у нас уже нет…
Иван Петрович весь вечер так и не присел. Он все ходил со стаканом вокруг стола, и у меня даже заболела голова от его мелькания. Он все время торопливо говорил, словно боялся, что его не дослушают, прервут. А вот о чем он говорил, никто из нас ясно представить не мог.
Сначала он почему-то заговорил о развитии химической промышленности.
— Ну что ж — химия так химия, — сказал он не то иронически, не то с каким-то горьким сожалением. — Им наверху виднее. Хотя у нас, кроме химии…
Он остановил свой бег вокруг стола, отпил глоток чаю и сокрушенно продолжал:
— Нет чтобы посоветоваться с деловыми людьми…
Алеша во время речей старшего брата, как правило, молчит. Сначала я удивлялась его терпению, а потом поняла, что Алеша просто не слушает, думает о чем-то своем. Но в конце концов происходит одно и то же — Алеша задает такой вопрос, что Иван теряется, не может ответить прямо, умолкает и вскоре уходит.
В тот вечер Иван Петрович все время возвращался к химической промышленности. Он ссылался на опыт других стран, кого-то убеждал, над кем-то иронизировал, торопливо писал в блокноте какие-то цифры.
Первым уполз из-за стола Мишка. Он тоскливо посмотрел на меня и ушел спать. Минут через пять поднялась Таня. Она подошла к дяде и очень вежливо сказала:
— Извините, у меня завтра трудный день.
Иван Петрович на секунду прервал речь и удивленно спросил:
— Тебе не интересно, о чем я говорю? — Он махнул рукой и добавил: — Вам, современным, подавай что-нибудь такое… неореализм, синтетику, модерн…
Таня, она у меня вся в Алешу, выдержанная, спокойная, чуть заметно улыбнулась и ответила:
— Я, дядя, очень люблю Чайковского…
Иван Петрович побледнел. Он, когда сердится, всегда бледнеет, говорит еще торопливее, глотает слова.
— А этого… американца… Как его…
— Вана Клиберна?
— Нет… Рисует непонятно…
— Пикассо?
— Ну, он…
— Он, дядя, не американец, а испанец, а живет во Франции. Успокойтесь, дядя, я к нему равнодушна… Наверное, просто не понимаю…
Таня ушла. Иван Петрович снова вернулся к химии, но Алеша, как всегда, задал ему категорический вопрос:
— По твоим расчетам выходит, что у нас ничего не выйдет?
Иван Петрович остановился. В его глазах на мгновение мелькнул испуг, потом он словно протрезвел и уже совсем другим тоном, миролюбиво переспросил:
— Не выйдет? Я этого не говорил, и ты мне, пожалуйста, такое не приписывай… Пожалуйста, не приписывай… У меня своих выговоров хватает.
Выговор у Ивана Петровича только один, правда, строгий и, так сказать, необычного происхождения — Иван Петрович получил его от Центрального Комитета. Я не знаю точной формулировки, но Алеша рассказывал, что в ней есть такие слова, как «бюрократический стиль руководства», «злоупотребление властью», «административные перегибы».
Вместе с выговором Иван Петрович навсегда покинул большой город на Волге, где много лет был секретарем обкома, и начал обживать свою четырехкомнатную квартиру на улице Горького, которая все эти годы стояла пустой.
В Москве Ивана Петровича назначили заместителем министра. Но это его вдвойне не устроило: во-первых, он был заместитель, а не министр, а во-вторых, не союзного министерства, а республиканского.