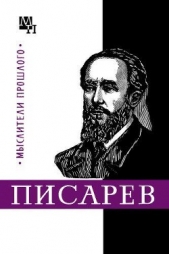Литератор Писарев

Литератор Писарев читать книгу онлайн
Книга про замечательного писателя середины XIX века, властителя дум тогдашней интеллигентной молодежи. История краткой и трагической жизни: несчастливая любовь, душевная болезнь, одиночное заключение. История блестящего ума: как его гасили в Петропавловской крепости. Вместе с тем это роман про русскую литературу. Что делали с нею цензура и политическая полиция. Это как бы глава из несуществующего учебника. Среди действующих лиц — Некрасов, Тургенев, Гончаров, Салтыков, Достоевский. Интересно, что тридцать пять лет тому назад набор этой книги (первого тома) был рассыпан по распоряжению органов госбезопасности…
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
А тихоня, даром что самый молодой, на письме поосторожнее прочих. Имен почти нет. Ну, Верочка, Вера — это понятно, это сестра (меньшая, незамужняя, восемнадцать лет). Кахас, Какас — прозвище другой сестры (двенадцать лет; надо думать, еще не заражена идеями; да братец и жил отдельно). Теперь Григ. Евл. Это, конечно, Благосветлов Григорий Евлампиевич, редактор «Русского слова», господин препротивный и предерзкий, вертелся тут, свиданий вздумал требовать с арестованным (на каком основании, позвольте спросить?), что-то лопотал насчет каких-то денег из Литературного фонда: пускай, дескать, Писарев только просьбу подаст. Зря, между прочим, тот отказался; что за честь, коли нечего есть; при дороговизне петербургской арестанта и на полтину в день не продовольствуешь, а как же на тридцать-то копеек, а перед господами сенаторами негоже являться истощенным, да и его светлость князь Суворов у нас больно жалостливы. Своих денег, однако, Благосветлов не предложил, — то ли скуп, то ли побоялся выказать слишком уж горячее участие. Мог бы и не бояться — поздно: наш пациент, без сомнения, наш пациент. Вон в справке-то из Отделения как аттестован: «Обнаруживает постоянно враждебные чувства к престолу и правительству». Все как и следует быть; до скорой встречи, любезнейший.
С Григ. Евл., таким образом, тоже ясно: это друг, достойный друг и покровитель. Но что и впрямь прелюбопытно было бы знать, это кто такая мадам Гарднер. В каждом письме — поклон ей, да и ласковый… Вот, извольте, опять: «Поклонитесь от меня всем знакомым, в особенности m-me Гарднер…» Оборот ли это заранее условленный (нет! почти невероятно), или в самом деле существует такая госпожа? Слышано ведь, слышано это имя, но где?
— Пакет, ваше превосходительство. От его высокопревосходительства генерал-губернатора, светлейшего князя Суворова-Рымникского!
Как же, как же, еще бы не Рымникского. Дед для того и колотил турок, чтобы внук, славным титулом прикрываясь, прохлаждался на высших должностях, а влияние и власть употреблял на попущение врагам религии и царя — нигилистам. И что горше всего — государь ему верит! Верит человеку, который во дворце похваляется своей преданностью, а сам под рукой, через адъютантов предуведомляет Чернышевского, что решено его взять, и паспорт заграничный предлагает! Вот она, гуманность-то!
Ну-с, поглядим, какую еще новую льготу светлейший для своих любимцев изобрел…
«Мать содержащегося в здешней крепости литератора Писарева (ах, вот оно что, пришла охота и этого пригреть; и он уже не кандидатом университета пишется — литератором; нетрудно догадаться, о чем просит безутешная мать, — так и есть!) ходатайствует о дозволении сыну ее, во время содержания под стражей, продолжать свои литературные занятия, которые до заключения его в крепость составляли единственный источник как для собственного существования этого литератора, так и для поддержания его семейства. (До чего трогательно; вот и подумал бы о семействе, прежде чем прокламации сочинять; да только не очень-то он родным помогал: по письмам видно — все в карты просаживал.) Принимая во внимание, что литературные (о господи, сколько можно!) произведения Писарева, прежде напечатания их, по установленному порядку будут (прямо — будут! по установленному, ишь ты) рассматриваться цензурой, я с своей стороны не нахожу препятствий (так-таки не находите, ваша светлость? — забавно…) к удовлетворению означенного ходатайства г-жи Писаревой. (Вот как просто; удовлетворим, стало быть?) Сообщая об этом Вашему превосходительству для зависящего от Вас распоряжения (ага, сейчас, сам побегу перья очинивать), покорнейше прошу уведомить, каким порядком полагаете Вы отправлять в цензуру произведения Писарева».
Вот это правильно. Сразу видно строгого начальника. Непременно, непременно нужно порядок соблюсти самый надежный, а то как бы, не дай бог, не потерялось какое произведение. Ай да светлейший князь! Ай да генерал-губернатор! Самого себя превзошел. Впору хоть караул кричать. На гербовой бумаге, с печатью, где орел двуглавый, за подписью вельможи, сановника, полного генерала — такая бесстыдная, такая злорадная насмешка над законом, над безопасностью государства, над монаршей волей, наконец! И ведь хитер: не пишет «разрешаю», знает, что власти такой у него нет, а сразу исполнения требует. Уведомьте его. Сейчас уведомим. Вот вам резолюция, извольте:
«Объяснить в донесении, что просьба г-жи Писаревой подлежит распоряжению Правительствующего Сената, в который должны препровождаться и рукописи для дальнейшего распоряжения. Но заниматься литературном трудом в казематах высочайше воспрещено. Разрешение такового есть особенная высочайшая милость…»
Да уж, при покойном императоре никто ни о чем подобном и заикнуться не посмел бы. Литературные занятия! Разве не за литературные занятия всех этих образованных господ сюда и засадили? Разве не для того именно, чтобы отнять возможность распространять злонамеренные суждения? Это крепость, милостивые государи, а не санатория для сочинителей. Здесь скучно, и страшно, и так и быть должно, так преступнику и надо, а невинные к нам не попадают, невинные вон по Неве на прогулочном пароходе «Комета» с музыкой катаются, белыми ночами любуются, сиренью цветущей дышат — летом. А зимою — на коньках, с факелами, с фонариками. Полезное изобретение — английские эти катки. Но — для невинных. А коли виноват — сиди под замком. И моли еще бога, чтобы подольше не отправляли в Шлиссельбургский замок или в Сибирь. У нас-то что, самое легкое считается заключение; при смирном поведении так даже и поблажки: хочешь книжку от тоски почитать — читай, мы не изверги, понимаем (библиотека скверная — уж какая есть: не отпускает министерство денег на покупку новых изданий, — да и не все, что печатают, арестанту полезно); а вот сочинять что-либо, кроме писем к родным да чистосердечных признаний, — не дозволяется, и не проси. И чернильниц-то в камерах не положено держать, их на всю крепость не более десятка; каждый полезет в авторы — не напасешься. По-настоящему, если уж на то пошло, надо бы как: неймется заключенному писать, — дар в нем гибнет литературный или просто одиночество томит, — вот грифельная доска, пиши на здоровье, это приличней, чем самому с собой громко беседовать; пиши и стирай, оно и для слога, говорят, хорошо. Да какое там, толковать о гуманности мастеров много, а попробуй-ка добиться позволения на копеечный расход — сколько бумаги изведешь, и все впустую. Этого, мол, нельзя, доски не предусмотрены. А предлагать заслуженному воину, боевому генералу, раненному в голову осколком турецкой гранаты, контуженному в руку и в ногу, — сделаться на старости лет журнальным комиссионером и состоять на посылках у преступного и коварного мальчишки, — это можно? Это предусмотрено?
Остынь, Алексей Федорыч, остынь, побереги сердце, не ровен час — кондратий подберется, а неприятели только того и ждут, очень мешает кое-кому старый, черствый сухарь-комендант. Этот кон все равно проигран, Суворов своего добьется, потому что зацепка есть, без зацепки той он поостерегся бы шутки шутить. Завтра придет запрос: как же так — в казематах не позволено авторствовать, а в равелине, в Секретном доме — сколько угодно? Что за беспорядок? Вот он, козырь; крыть нечем: ошибка-то допущена, и этот роман «Что делать?» еще наделает бед; поздно оправдываться, валить друг на друга, рассказывать, как в Отделении возились с доказательствами, как Сенат подыскивал подходящую статью закона, и все медлили, все чего-то выжидали, и никто не знал наверное, как обращаться с Чернышевским, и только он один ни часу зря не терял. Не расскажешь, и слушать не станут, и по дурному примеру, якобы справедливости ради, получит-таки Писарев высочайшее разрешение. Ну и что, подумаешь, пусть его политераторствует несколько времени, пока приговор не готов. Цензура теперь настороже, да и мы проследим, чтобы нового вреда отечеству не вышло: проврется юноша — пускай пеняет на себя. А светлейшему эту обиду попомним и отплатим, дайте срок.