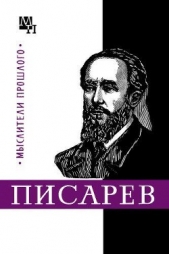Литератор Писарев

Литератор Писарев читать книгу онлайн
Книга про замечательного писателя середины XIX века, властителя дум тогдашней интеллигентной молодежи. История краткой и трагической жизни: несчастливая любовь, душевная болезнь, одиночное заключение. История блестящего ума: как его гасили в Петропавловской крепости. Вместе с тем это роман про русскую литературу. Что делали с нею цензура и политическая полиция. Это как бы глава из несуществующего учебника. Среди действующих лиц — Некрасов, Тургенев, Гончаров, Салтыков, Достоевский. Интересно, что тридцать пять лет тому назад набор этой книги (первого тома) был рассыпан по распоряжению органов госбезопасности…
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
И еще развязно так держится: дескать, признался, раскаялся, чего вам еще; дескать, сказано же вам, что статейка — вчерашний день, заблуждение запальчивой юности, впредь не повторится. Вроде и не глуп, а все-таки верит, будто предстоит ему какое-то «впредь» помимо каторги. Будто не все равно, сгоряча он свой злокачественный образ мыслей высказал или готовился загодя. Разжалобить думает. «Я умоляю Его Величество не считать меня закоренелым преступником и взглянуть на мою преступную статью, как на минутный порыв, а не как на выражение, обдуманного плана действий. Я так молод, так способен увлекаться и ошибаться, так мало знаю жизнь, что часто не умею взвесить свои слова и поступки. Все это нисколько не оправдывает меня, но я уверен (он уверен!), что Высочайше утвержденная комиссия повергнет эти обстоятельства на милостивое внимание Его Величества (дожидайся!), и что милосердие Монарха даст мне возможность загладить последующим моим поведением совершенное мною преступление». То-то вот и оно, что кандалы не свой брат, и смелости нет получить, что заслужил. Милосердия захотелось. Много он заботился о милосердии, когда к злодейству призывал. А уж коли так хочется спастись — попытайся заслужить, нечего невинность соблюдать, будь мужчиной, будь дворянином, наконец: возьми перо и, чем маменьке всякие пустяки писать, изложи по порядку — кто подучил, кто заграничными изданиями снабжал, о чем там у вас в Шахматном клубе толковали. А то искренности ни на грош, никогошеньки не назвал, а туда же — надеется.
Нет, не уважал генерал-лейтенант Сорокин заключенного Писарева и, между прочим, не собирался, ежели речь зайдет, скрывать от государя, что это за личность. Вообще литераторы нынешние его разочаровали. До позапрошлого года, пока не привезли Михайлова, люди этого сорта не попадались, и Алексей Федорович в простоте душевной ожидал то ли каких-то необыкновенных поступков, то ли хотя бы занятных речей. Ничего подобного, арестанты как арестанты, да еще хитрые, скрытные, высокомерные. Только и знают претензии заявлять, а домой пишут, что всем довольны, причем напирают на правильный и спокойный образ жизни, будто им лекарь прописал в крепости посидеть для поправления здоровья, и как раз вовремя, и они сами об этом с детства мечтали.
Этой обязанностью — читать письма заключенных — Алексей Федорович весьма тяготился, никак привыкнуть не умел.
Как хотите, а недостойное это занятие для кавалера всех российских орденов, для военного человека, пожалованного двумя (да, представьте, двумя!) золотыми шпагами с надписью «За храбрость» (причем та, что за Варшаву, — просто золотая, а за венгерскую кампанию — украшена еще бриллиантами). Разбирать каракули разных напрокудивших щелкоперов (которым хоть и велено писать короче и непременно по-русски, а все без толку: лепят слово к слову, поди прочти); вникать в их семейные обстоятельства, денежные счеты, ученые соображения, литературные планы (удивительное создание человек! — его рудник ждет, а он о статьях будущих толкует); проверять излияния чувств, запоминать поклоны, считать поцелуи… тьфу! Приятного мало, видит бог, но переписку государственных преступников никому не передоверишь; в сущности, даже и откладывать не следовало бы: вдруг там сведения важные (вот как давеча про Чернышевского, — что на поруки-то отпускают); в письмах проговариваются даже заключенные, а родственники — те болтают, как у себя в гостиной за чаем, с прелестной доверчивостью: какое, мол, начальству дело до нашей частной жизни, кто там станет в подушках рыться. А вот приходится, такая должность.
Есть расположение, нет ли, но уж если стопка бумаг на столе выросла вровень с крышкой чернильницы — дальнейшие проволочки неуместны, и прочие дела побоку. Отпираем бюро, берем с верхней полки любимую походную лупу в потертом зеленого сафьяна футляре. Из потайного ящичка достаем тетрадь с тщательно и замысловато нарисованным на обложке ключиком (рука еще тверда, линия как награвирована, кто не служил в чертежной инженерного департамента — нипочем не поверит, что тушь, хоть бы и английская, бывает столь послушной). Тут имена, названия, цифры — вся существенность, которая остается, если высыпать болтовню арестанта в сито и как следует встряхнуть. Против каждого имени — пояснение, а к нему по мере проникновения в обстоятельства добавляются примечания. Спасибо Потапову, Александру Львовичу, что надоумил; без тетрадки этой в самую пору было бы теперь к Николаю-Чудотворцу, в желтый дом. Как ни скучно с нею возиться, но зато память спокойна, — это невыразимое облегчение. И удобно: вся житейская обстановка преступника как на ладони, характер его выказывается от письма к письму ясней, да еще накапливаются впрок разные хоть и посторонние, но полезные факты.
Вот, пожалуйста: наш главный умник — Чернышевский — просит Пыпина передать поклон брату и кстати роняет, спасибо ему, два-три словечка о событиях прошлого лета. Тотчас отыскиваем литеру «П» — тут у нас на Пыпина целая страница — и вписываем: «По отъезде профессора Пыпина у Чернышевского оставался брат его». Сегодня этот безымянный брат никому не нужен, а завтра, глядишь, и понадобится… Позвольте! Да ведь он на этой странице бог знает как давно живет: Серно-Соловьевич о нем, о младшем Пыпине, упоминает в письме от восьмого прошлого сентября. Итак, сей юноша, родственник заключенного Чернышевского, служит приказчиком в книжной лавке, принадлежащей заключенному Серно-Соловьевичу?
Генерал-майор Потапов таким находкам радуется, как дитя малое. Оно и понятно: воображение возбуждается, когда так явственно вдруг блеснет на свету паутинка, тянущаяся из каземата в чей-нибудь кабинет, а оттуда в другой каземат… Но разве это новость, что все наши подопечные знакомы и дружны между собой? У того же Потапова давно заготовлен список подозрительных лиц, подлежащих арестованию в случае каких-либо чрезвычайных происшествий: одни профессоры и журналисты; там и Пыпины, и Утины, и еще какой-то Гиероглифов, всего-то человек с полсотни. Ну и взяли бы голубчиков хоть нынче в ночь, как-нибудь поместятся, вон обе куртины стоят еще наполовину пустые, — и сразу очистился бы воздух в столице, — так нет же, все миндальничаем, все на Европу оглядываемся: ах, как бы, не дай бог, там не подумали, что возвращаются порядки предыдущего царствования. Скажите, как не угодил Николай Павлович (царство небесное), какой страх по себе оставил. Но он-то Европу вашу хваленую держал вот где. Крутенек был, точно крутенек, да зато при нем и не слыхивал никто, чтобы за сажень восьмивершковых дров платили двадцать шесть рублей ассигнациями; при нем бородатый в пледе, с сигаркою в зубах по Невскому не разгуливал бы, шалишь! — такому одна была дорога: в смирительный дом; а уж девиц без кринолинов, стриженых, которые на лекции шастают, любоваться, господи прости, как покойников режут, — этакой срамоты и в неладном сне вообразить было невозможно. Полячишки, правда, и тогда бунтовали; дело известное: как покойный фельдмаршал Паскевич говаривал — такая уж у них география, что либо бунтуют, либо подличают. Но и острастку же мы им дали — на тридцать лет хватило; не нянькались; и никакие державы пикнуть не смели, не то что заступаться; а теперь до того дошло — грозят (все Крым, несчастье наше, француза раззадоривает, храбрость в нем разжигает). Ан просчитаются. Тут уж государь не уступит: воевать так воевать. Вся Россия в негодовании поднялась, как один человек, как в двенадцатом году было. Подлинно, нет худа без добра. Ведь эти-то, Писаревы-то да Чернышевский с компанией, на что надежду полагали? Крестьяне, мол, разочарованы, помещики озлоблены, молодежь распущенная прокламаций начиталась, — чиркни спичкой, государство и сгорит. Или хоть задымится. А на поверку не то вышло. Всякая рознь позабыта. И как ни набаловано общество наше послаблениями, а при звуке опасности вспомнили все, наконец, что мы — русские (это Катков Михаил Никифорович в «Московских ведомостях» чудесно объясняет), и с презрением отвернулись от горстки изменников с Герценом знаменитым во главе. Отец Василий-то справедливо Герцена генералом от революции величает. Действительно, все следы к нему ведут, за границу. И Михайлов свой листок в Лондоне отпечатал, и Шелгунов там побывал (не с ним ли вместе? а еще офицер, называется, подполковник!), и Чернышевский туда же собирался, через Серно-Соловьевича его приглашали (такую штуку доверить письму! совсем уж полицию за дуру принимают). И даже у тихони нашего, у Писарева, при обыске дома портрет чей бы вы думали отыскался? В книжной лавочке, говорит, купил, случайно, говорит, для истории литературы. А прокламацию сочинял — тоже случайность это, что Герцен там через два слова на третье? Вот и сидите, миленькие. Тут вам и Лондон, и парламент, и, как его там, — Гайд-парк, одного жаль: предводитель ваш далеко (острое, ей-богу, перо этот Катков, ну надо же так поддеть — «за спиною полисмена прячетесь». Молодец!).