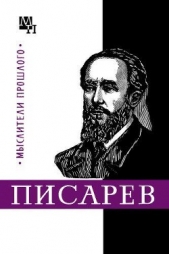Литератор Писарев

Литератор Писарев читать книгу онлайн
Книга про замечательного писателя середины XIX века, властителя дум тогдашней интеллигентной молодежи. История краткой и трагической жизни: несчастливая любовь, душевная болезнь, одиночное заключение. История блестящего ума: как его гасили в Петропавловской крепости. Вместе с тем это роман про русскую литературу. Что делали с нею цензура и политическая полиция. Это как бы глава из несуществующего учебника. Среди действующих лиц — Некрасов, Тургенев, Гончаров, Салтыков, Достоевский. Интересно, что тридцать пять лет тому назад набор этой книги (первого тома) был рассыпан по распоряжению органов госбезопасности…
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
«Наблюдать в сто глаз каждое движение, счесть, как волоса на голове, все не только слова и поступки, но уследить и мысли — и потом передать это оглашению и суду массы! Так не исправляют, а убивают, и притом убивают медленно и тысячу раз! — с нестерпимой жалостью к себе восклицал Иван Александрович. — Если уже делать так, то надо делать со всеми, а не с одним. И все это за то, что в характере, таланте есть нечто свое, оригинальное: это не причина, чтобы терзать при жизни!.. Если человек даровит, то тем более, кажется, надо бы щадить его, предоставив ему делать или не делать свое дело, и делать то и так, как он может и хочет? Я должен был служить, должен был, по недостатку средств, жить в Петербурге, в неблагоприятном для пера климате; не было у меня ни деревни, ни денег жить за границей, как у Толстых, Тургенева. Как меня мучили, ломали, как дети игрушку, чтоб узнать, что такое там…»
Когда со стороны крепости донеслись первые залпы, Иван Александрович уже спал в своем кресле. И всхлипывал во сне.
— Мамаша, милая, умоляю: отойди от окна. Ты простудишься. И ничего там, на улице, все равно не видно. Да и не на что там смотреть.
— Не простужусь. Ты ложись, Верочка, пора. Не порти глаза.
— Сейчас. Тут, в этой «Искре», что тебе дал Благосветлов, одно стихотворение есть очень страшное. Как будто злорадное. Или я не так поняла. «Искра» ведь честный журнал, правда? А вот послушай:
Может быть, это как бы от лица негодяев? Они торжествуют, а этот Курочкин их передразнивает? Но разве это смешно? Слушай дальше, самый ужас:
Что ты молчишь? Я боюсь! Мама! Это из крепости стреляют, да?
— Из крепости. Я забыла, сколько полагается выстрелов — тридцать один, что ли. Нет, кажется, даже больше. Сто один. А пушки ставят на крепостных стенах. Над самой головой у него. Бедный мальчик, бедный, бедный мой, что же делать, о боже!
Пламя сального огарка развевалось над оловянным подсвечником, норовя сорваться с фитиля, и трепещущая тень, едва похожая на человеческую, летала по сводчатому потолку. В томительной паузе между залпами она раскачивалась все тише, становилась отчетливей, — но опять мелькала слабая вспышка в верхних ячеях окна (как будто громадной спичкой чиркали о крепостную стену), и, вздрогнув от нового удара, опять носилась из угла в угол неузнаваемая тень.
Лепестки закоптелых белил, проплывая перед глазами, садились на бумагу, на пути грубо очиненного пера, и сдувать их следовало деликатно, чтобы не повредить непросохших букв.
«Что мне делается! — написал заключенный и поставил изящный восклицательный знак. — По обыкновению здоров и счастлив».
Это он сочинял очередное письмо к матери: взобрался с ногами на дубовый табурет и сгорбился над хлипким столиком, придерживая левой рукой отвороты халата. Фейерверк не занимал его нисколько: куранты пробили три четверти десятого, свечу надо гасить с минуты на минуту, приходилось спешить.
«По тону твоего письма, душечка Маmаn, я вижу, что ты почти так же грустишь и беспокоишься, как в то время, когда я был у Штейна. Не знаю, как бы мне уверить тебя, что я действительно ни в чем не нуждаюсь и не чувствую ни малейшего страдания — ни физического, ни нравственного».
Болели зубы, кровоточили десны, и собственное дыхание было противно; все эта скаредная кормежка, так и до скорбута недалеко; в день ареста не оказалось при себе денег, а пригодились бы: хоть чаю порядочного спросить.
«В крепости жить очень дешево, что при дороговизне петербургской жизни вообще очень приятно».
Все бы ничего, если бы не этот влажный, чадный, смрадный воздух: холодно и вместе душно; слезятся глаза, и зудит липкая кожа; что утром и вечером дым ползет из коридора от растапливаемых печей — куда ни шло, но от скверной копоти ночника нет спасения, въедается в поры, грязнит белье, чернит бороду, и вообще все время такое чувство, словно тонешь в грязной, жирной, отравленной воде. Впрочем, начальство уверяет, что деревянное масло, которое горит в ночнике, — последнее слово тюремной мысли, а вот до шестьдесят первого года полагалось конопляное, так это уж точно был ад.
«Зачем горевать? Ведь все же это со временем пройдет и понемногу забудется, как начинает забываться и мое пребывание у Штейна».
Да нет, бесполезно, пустая трата слов. Дома все равно убеждены, что он из великодушия (прелестное словцо!) бодрится, из жалости к мамаше, и никакими шутками, не говоря уж о разумных доводах, с этой точки их не сбить. Начитались романтических баллад, а там изможденные страдальцы гремят цепями и оглашают темницы стенаниями. Как же не восхищаться драгоценным Митенькой, раз он выказывает такую силу духа — стенать не хочет. И невдомек им, бедным, что привыкает, и быстро привыкает человек к любому, самому тягостному положению, что мучителен только страх, а он скоротечен, он длится лишь до тех пор, пока неизбежное остается неизвестным, пока ведут из прежней жизни в новую по гранитным лестницам, по темному коридору мимо запертых дверей и вооруженных людей. Но, как и все остальное, кончится же когда-нибудь коридор, и распахнется с лязгом дверь в назначенный нумер, — и будущее, неразличимо мрачное издалека, становится тусклым, но очевидным настоящим, а кто же боится настоящего? Разве меланхолики, но мы-то, слава богу, излечились. Спору нет, декорация убогая, с благосветловской квартирой не сравнить, бронзовых амуров у нас в девятом каземате не водится, шато-икемом не потчуют, и есть на манер диких зверей, без ножа и вилки, не слишком ловко, и пол ужасно холодный, точно под крашеным войлоком не камень, а лед, и темно, как в самой поэтической темнице. Но чтобы из-за этого стенать? Нет уж, увольте. И ради всего святого перестаньте бредить каким-то дурацким великодушием, будто это заслуга — не быть скотом и не пугать родных неудобствами казенного дома. Стенать просто-напросто не резон, и неприлично, и недосуг, наконец. В тюрьме, как и в больнице, день нарезан мелко-мелко, ключ в замке то и знай гремит, особенно до обеда: первым плац-адъютант пожалует, за ним доктор, потом комендант, а вечером еще и поп. Да троекратный ритуал приема пищи, да сборы на прогулку, да сама эта прогулка, да церковные службы, да мало ли еще что. В любой день могут взять на допрос, а то и Суворов приедет или от него кто-нибудь. Одно переодеванье (из арестантского в свое, а потом наоборот) чего стоит, а сколько других микроскопических хлопот, какая паутина унизительных навыков, насильственных привычек, как устаешь. После обеда сон не побороть, но так все хитро подстроено, что и наяву словно бы спишь, словно бы в дороге укачало, только не версты мелькают в окне, а над головой куранты через каждую четверть часа выводят разные коленца. (Забавно: живешь в музыкальной шкатулке.) И не помнишь, и нужды нет (на самом деле — нет сил) помнить, где твоя станция, а там ведь ждут, плачут, ломают руки… напрасно. С нами тут в крепости делают вот что: отнимают волю. Не ту, что за воротами (ее, впрочем, тоже), а другую — волю хотеть. Стараются, чтобы она сама отнялась, как рука или голос, чтобы человек ослабел и ему стало все равно, чтобы закутался, как в солдатское одеяло, в подробности распорядка; чтобы жил только здесь и сейчас и был только тем, кем числится в ведомости… Отнимают волю, а взамен дают покой. Все забыть, ничего не надеяться, то есть не чувствовать тоски, — соблазн почти неотразимый.