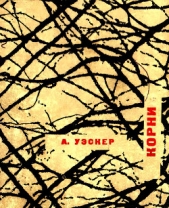Колесом дорога

Колесом дорога читать книгу онлайн
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Махахей, остывая, посидел на сваленной, вмерзшей в лед осине, прикидывая, где можно наверняка что-то поймать. Места он знал все наперечет. Абрамчукову яму на речке обрезали, спрямляя эту реч-, ку, обрезали и засыпали, с виром у Бабского пляжа то же самое. Сегодня не было в помине и самого пляжа. Омута у Свилево пересохли. И выходило, что речка, по крайней мере для него, не речка. Может, еще кто и назовет ее речкой, но это только тот, кто родится после него, кто еще не видел и не знает, что такое настоящая речка. Выходило, что до самого Храпчино, до большой реки, на которую сегодня у Ровды еще не хватает сил, и разматываться не стоит. Махахей, все еще распаленный, не остывший, снял шапку, будто не его речка и не его Весковое озеро лежали перед ним. Ветер тут же разметал и высушил его седые жидкие волосы и уже остужал лоб и голову, но он словно не чувствовал холода. Не покрыв головы, поднялся с осины и, не выбирая дороги, побрел сначала Бесковым, потом речкой к Храпчино. Простоволосый, шел через Свилево и Болонь, через свою же дубовую рощу, неприютную и зябкую без поддержки других деревьев и кустов, шел, углубившись в себя, будто на самом деле прощался со всем, что видел. И, прощаясь, незаметно оттаивал и согревался, постепенно обретал другое зрение. И вставало перед ним не только, что было сейчас, но и то, что было здесь раньше, что запало и легло на душу. Поражался своей памяти, понимал, ничто из этого ушедшего не возвратно, и жалел, но не себя и не прошлое, прорастающее перед ним дубняками, клубящееся убегающими вдаль стогами сена, бьющее криницами, не неведомую ему землю, а все того же, который, наверно, еще и не родился, но который родится, придет и явится. И что же он увидит, на каком языке заговорит с ним, Махахеем, что ответит он ему с того света. Признает ли тот, неведомый еще миру, эту землю, поймет ли, почему его деды и прадеды и он, Махахей, так смертно стояли за нее? Он, Махахей, у края жизни, у края своей могилы, принимает все, как есть, и, как будет, тоже все принимает, потому что он знает и видел не только, как есть и как будет, но и как было. Видел и стоял за это — за как было. Сегодняшнее все как есть замешано на его поту и крови, он слышит, он чувствует этот свой пот и кровь. А будет ли чувствовать следующий за ним? Не заноет ли душа у того, не рожденного, не взбунтуется ли, ведь хотя его и нет, но душа его уже вылеплена. И не из хлеба она и булок, сладкого и водки, а из лесов и болот, из речек и ручьев, из воды явилась на белый свет и приняла его, признала. Нет ничего, нет и души, обрублены корни, усохло дерево. И тогда остается только одно: ни на кого не оглядываясь, имея одну только мысль, одно желание — любой ценой, да выжить,— грести и грести все под себя, потому что на всех все равно не хватит. Вот и он уже отправился за чужим, за ершиком, ему не принадлежащим. Его ершик плавал, гулял под хатой и сто лет был не нужен ему. Не нужен до тех пор, пока не стало этого ершика сопливого, пока не извел он его. А как только не стало, понадобился. За шесть километров бежит за ним и вопит: вернись, вернись, необходим, хотя и проку от тебя никакого — хвост да колючки. Но кроме хвоста и колючек есть и еще что-то, оказывается, в этой паршивой рыбешке. И сразу же стал неметь большой палец на правой, на рабочей руке. И Махахей вспомнил, что именно этот палец был наколот ершиком давно, когда не был еще забронирован мозолями, и боль была тогда не тягучая и немая, как сейчас, а колкая, острая. Вспомнил и самого ершика, махонького, ну точно копия он сам, давняя копия, стершийся уже портрет, не поддающийся восстановлению, хотя, может быть, во внуках, во внуках... Ершик ведь хоть был и малюпастенький, но решительный, на весь мир растопыренный колючками.
Весной, в разлив было это. Вода перла со всех концов, правда, шла уже на спад. Он сидел с удочкой на острове у озера под дубом. Ни озера, ни дуба того уже нет, но есть Аркадь Барздыка, который тоже тогда был с ним. Был еще Антон Ровда, покойник уже, брат его, Василь, тоже покойник... Полсела покойников. А тогда они были живы и не догадывались, что на их долю выпадет война, что на их жизнь уже отливаются пули. Рыбачили себе в удовольствие, жгли под дубом ,костер, на прутах жарили сало. И такое солнце было. И не на небе, а прямо в ветвях дуба, и тишина, тишина, слышно, как сходит вода, хватает в протоке, мнет и колышет конопляник. Удочка у Махахея была отцовская, конский волос сплетенный, да так, что ни одного узелочка. А вот ведь не клевало и на отцовскую удочку. Он оставил ее, занялся салом. Антон Ровда оторвал его от этого:
— Кто-то теребит, Тимох, вуду тваю.
— Хлопцы, лещ, тихо,— шепотом выдавил он из себя и замер, следя за поплавком.— Там у меня таки червяк, таки червяк, что мелочь и подойти боится.
Червяк и в самом деле был огромный, выползок-росовик. И кто-то по-лещиному трогал, обсасывал этого выползка. Поплавок то чуть чуть скрывался, то полностью выходил из воды, ложился набок и отплывал в сторону. Полсела ребятишек, ровесников Махахея, стояли за его спиной, нетерпеливо сучили ногами. Советовали все сразу — и подсекать, и не торопиться. Он подсек, вытащил нетронутым своего росовика. Забросил снова, проклиная советчиков: а вдруг не подойдет лещ, напугал он его. Но клев продолжался, и опять такой же осторожный, рассудительный. И все уже поверили в крупную рыбу. И Тимофей, напрягшись, ожидая сопротивления, подсек во второй раз. Леска взвилась запуталась в ветвях дуба, а на свободном ее конце трепыхался ершик в два раза меньше червя. Где только рос, из какого голодного края прибежал в эту глубь такой оглоед. И каким оглушительным смехом встретил его берег.
Махахею темно в глазах все стало, он ринулся, пошел врукопашную на того ерша, сорвал его с крючка и хотел уже шмякнуть на песок и топтать, топтать ногами, но почувствовал вдруг обжигающую боль в пальце. Обозлился и удивился, сколько боли может таить в себе этот ерш, это ничто, где она только скрывается в нем, та боль, если он ее чувствовал весь день и сегодня, почти полвека спустя, она не отошла еще. Вот так чепуха, вот так мелочь, сопливый ерш. Немеет, отнимается палец на правой, на рабочей руке.
Они ведь, ребятишки, тогда, полвека назад, зверски обошлись с тем ершом запинали его босыми ногами, замучили, засыпали в песке распяли с неистовой радостью и восторгом, не признавая в нем. нf живого ни мертвого видя одну только досадную бесполезность, му сор. отходы жизни и воды. Но в этом мусоре сущего, оказывается, есть еще и память И еще что-то кроме памяти породнен этот ерш-бесполезность и с ним, не с ним самим, а с тем, кто невидим в нем и неясен ему самому с человеческим в нем. в Махахее. Махахей допускал в себе присутствие некого другого. Этот другой всю жизнь был в нем, глаз ли какой всевидящий и судящий его, человек ли другой, живший давным-давно и давно умерший, но воскресший потом в его, Махахея, земной оболочке, а может, и не родившийся еще человек, предчувствующий еще только свое будущее рождение и в этом своем предчувствии оберегающий и себя, и его, Махахея, ото всего, что казалось недостойным ему, чего пришлось бы потом стыдиться. Этот другой вошел в Махахея еще в детстве, и не всегда жили они в ладу. Случались между ними обиды и ссоры, случалось, что другой и уходил — ненадолго, но все ж покидал его. В войну было. В родном селе. Но про то не знает ни одна живая душа, даже баба его Ганна не знает. Не поворачивается у него язык. Пытался рассказать дитяте, сироте Матвею Ровде, да вовремя остановился. Тот, другой в нем, и остановил его: не все и не всем надо знать про тебя. В плену у немцев был онг Махахей. Под автоматом, правда, но руки поднял. Поднял, зная, что делает, и потому до конца, наверно, дней своих суждено ему помнить о том и мучиться. Сидел он, отсиживался в жите возле Князьбора, когда немцы впервые ворвались в его деревню и убили бусла. Упал бусел, поднялся из жита Махахей. А перед ним немец, автомат от своей груди в грудь ему направил. И вот-вот, кажется, выскочит оттуда чертик, и кончится этим чертиком его, Махахея, жизнь. Знает об этом немец, знает об этом Махахей, и чертик знает, улыбается из черного дула автомата. И немец улыбается: ком, ком, ком... На Махахее свитка крестьянская, а галифе с обмотками солдатские. Только что с боя прибежал, километров семьдесят вчесал, те же немцы сюда приперли. Как врезали в первом же бою, так до самого дома и опомниться не мог. Но из боя он бежал, почти не зная, от кого и почему бежит. А тут перед ним уже видимый враг. Тут уже ничего списать неЛьзя. И стояли они друг перед другом, лицо в лицо. И лицо чужое, немецкое вовсе не казалось Махахею ни чужим, ни немецким, на своего, деревенского был похож немец, на Аркадя Барздыку, только было его лицо довольное. «Это он радуется, что взял меня в плен»,— догадался Махахей и обозлился: Аркадя Барздыку он побарывал и в волейбол играл лучше его, бил пушечно с правой и с левой.