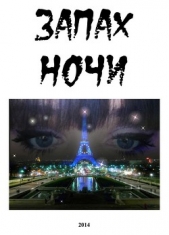Избрание сочинения в трех томах. Том второй

Избрание сочинения в трех томах. Том второй читать книгу онлайн
У первых во главе когорты богов стоял Зевс, у вторых — Юпитер. И тот и другой были громовержцами,
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
— Дух, дух! — бурчал Березкин, снова заворачивая свое хлебно–махорочное крошево. — Иной раз что тебе бугай человечище, а дух в нем хлипкий. Кирюша на что — в семи местах стреляный, и без руки, а к делу рвется, плачет аж. Дух — оно хитрая штуковина. Из воды его не намакаешься.
Только Васька пропал за домами — появился из прогона московский профессор, с ружьем, с подсумками.
— Что так рано, Степан Михайлович? — окликнул он деда.
— Старик да петух — первые зорьку встречают, — ответил Березкин. — А тут еще сон увидел: царь–кочень вырастил на Журавлихе. Не ты ли это, Кузьмич, шел вдоль канавы?
— Я, Степан Михайлович. В лесу заночевал да вот глядел сейчас — сон–то ваш явью оборачивается. Замечательные будут огороды на Журавлихе.
— И я говорю: огородная земля. Куда им с садами туда лезть!..
Курили на дедовом крылечке, встречали вдвоем тихое деревенское утро, и казалось Майбородову, что век он живет здесь, в Гостиницах, и век думает общую с гостиницкими думу — об овощах, о птице, о яблонях, севооборотах. Вышел бы сейчас Панюков, сказал бы: «Неуправка, Кузьмич. Запрягай Атлета с Буйным, подсоби зябь пахать». Запряг бы, пошел под зябь пахать.
Но не Панюков, а бабка Фекла вышла на крыльцо.
— Чайку, может, с нами попьете? — позвала.
— Чайку? А это хорошее дело на зорьке. Душу и тело согревает. С удовольствием выпью чашечку.
4
Снова — и в который раз! — сидят Федор с Таней на своем укромном месте у реки. Не белые лепестки осыпают теперь вкруг них черемухи, а латунно–желтые пятаки осенней листвы тяжело падают с ветвей на землю. Ожирели за лето голавли, ушли вглубь, а может быть, и на крючок рыболова попались. Взамен их под берегом, плотно держась друг друга, торопливо мелькая плавниками, выгребают против течения и словно на месте стоят стайками мелкие рыбешки–сеголетки. Упадет среди них лист — шарахнутся в стороны, взблеснут, точно кто горсть новых, не затасканных в карманах гривенников метнул в воду.
В черемуховой гущине — драка, писк, пόрханье крыльев. Круглыми птичьими глазами глядят из–под листвы зрелые черные ягоды. Возьмешь в рот такую — свяжет и нёбо и язык. Из–за них, из–за ягод, и распря. Свиваясь жгутом, проносятся над водой скворцы. Высидели в майбородовских скворечнях птенцов, выкормили червяками с огородов, выучили всему, что молодым птенцам знать надо, и в отлет готовятся.
Тонкая паутина ползет по кустам, седыми хвостами по ветру крутит, в белые комья сбивается; за лицо, за волосы заденет — не знаешь, как и отлепиться от нее. Что там — банный лист! Осенняя паутина пристанет — хватайся за щеки, маши руками вокруг головы, — не поможет.
Много переговорили всякого Федор с Таней за летние месяцы, без робости снимает он докучливую паутину с ее завитков над ушами и на шее, там, где косы за день растрепались. Знает: коснись губами ее смуглой щеки, обними за плечи — не отстранится, разве только сорвет прутик с ракитника да стегнет небольно по рукам.
Разговоров много было разных, главное же не сказано, планы–то сокровенные так и не раскрыл Федор, так и не знает садовница, что будет он агрономом, что вместо домика материнского думает срубить большой, в четыре комнаты, — позади оставить Ивана Петровича с его особняком. Ну да пока это будет, можно и в старом доме пожить. Вот к зиме правление решило электрический свет к селу подвести с железнодорожной станции. Шестнадцать километров — разве это расстояние при таком желании колхозников видеть в домах своих электричество? Три сотни столбов надо, — двести уже заготовили. Шефы медный провод обещали прислать. Свет будет. Вот тогда и утюги электрические заводи, и приемники ставь, концерты слушай. А дальше как хозяйство пойдет в колхозе, со своим–то агрономом! Федору еще совсем неясно, как он будет вести колхозное хозяйство, но одно решил твердо Федор: пойдет оно у него строго по–научному. Хозяйство будет интенсивное, чего требовали комсомольцы у Панюкова.
Не знала этих планов Федора Таня, сидела задумчивая. Федору казалось, что скучно ей с ним. Отчаяние забирало от этого, — не находил слов, мысли шли вразнобой, делались никому не нужными.
Тишь стояла над землей. Вьюшкин, который тут, бывало, учился пиликать в кустах, давно выселился с берега. Бойко играет он на танцульках свою «Беженку», с закрытыми глазами даже, и голову фасонисто отвернет в сторону, вроде он и ни при чем тут, сама музыка, мол, откуда–то берется — руки, что ли, такие умные или от природы талант. А после Вьюшкина шуметь на берегу стало некому. Только разве вот резко и отчетливо хлопнет вдали ременный бич: гонят стадо с пастбища. Еще где–то, на скотном дворе, быть может, колодезный ворот визгнет да за поворотом реки стук от весел в уключинах — рыбачить под. воскресную ночь кто–то собрался.
Нехитрые эти звуки привычны и знакомы. По ним и Федор и Таня могут безошибочно определить, что делается сейчас на селе. У ворот хозяйки встречают своих буренок. Иван Петрович сидит с профессором на крылечке и разговор ведет: коровники, мол, пора благоустраивать, — бетонные полы, автопоилки, корма с весу. Панюкова, как всегда, окружают мужики. «Аванс? — объясняется Семен Семенович. — Поставки выполним — не то что аванс, полный расчет будет. От самих зависит. Давайте нажмем на обмолот. Ясно–понятно?» А там, наверно, Евдокия Васильевна за стряпню взялась… Тане чудилось, что ветерок донес со стороны дома запах кипящих на сковородке грибов. Полные кошелки подосиновиков носит профессор из леса.
— Пойдем–ка, Федя. Вставать мне завтра чуть свет, — сказала она и вскрикнула: — Ой, ноги отсидела! Подымай теперь.
Федор взял ее за теплые руки, поднял. Она не могла ступить и все ойкала:
— Ой, совсем как бабка Фекла сделалась.
— Так–таки и поедешь? — спросил Федор.
— Так–таки.
— В Ленинград?
— В Ленинград. Да не смотри ты на меня такими глазами. На три дня всего. Покажут нам, садоводам, новые прививки, инструкцию разъяснят — вышла какая- то. И вернусь.
Она поднялась на гребень пригорка и остановилась, посмотрела на Федора, словно обдумывая что–то.
— Федь, — сказала просительно. — Может, дашь мне часики свои в дорогу. Не бойся, в среду или в четверг верну.
— А что матери–то скажешь? Откуда, спросит, — отстегивая ремешок, сказал Федор.
— Жених, скажу, дал. — Таня хитро скосила глаза.
— Смейся! Досмеешься. Пойду вот к Евдокии Васильевне и скажу…
Шутливый тон Тани придал смелости Федору, развязал его язык, до того точно схваченный черемуховыми ягодами.
Таня отошла на несколько шагов, обернулась, прищурила глаза, как всегда у нее бывало, когда она волновалась:
— Да я, может быть, сама ей все сказала! Думаешь, ничего не вижу. Думаешь, не знаю… Чудной ты, чудной!
Сказала, подхватила руками подол платья и со всех ног, прыгая через гряды, через борозды, побежала к деревне.
5
Майбородов уезжал. Уже написано было ответное письмо коллеге на юг. Оно лежало на столике возле окна, незапечатанное, и, с трудом разбирая мелкие витиеватые буквы, можно было прочесть на первой его страничке: «Дорогой друг! Ты спрашиваешь, как мои дела, продвинулась ли работа, что принесло лето? Я тебе писал весной про Рим, про гусей, об индюшках и обо мне. Сказать теперь надо иначе: если Рим спасли гуси, то меня избавили от большой беды индюшки…»
Уложенные чемоданы в холщовых с голубыми каемками чехлах стояли на кровати, с которой были сняты одеяла и простыни; и неуютно темнела впадина на соломенном матраце, промятая боками Майбородова. Иван Кузьмич втискивал просоленные птичьи шкурки в распухший старенький рюкзак с множеством карманов и карманчиков — и внутри и снаружи. Поглядывал в оконце. На душе грустно. Конечно, в его письме товарищу было много шутливого, но все соответствовало истине. Майбородов не забросил своих дроздов и пеночек. За лето он провел интересные наблюдения над болотной птицей, весной с помощью телеобъектива заснял батальные сценки на тетеревиных токах, окольцевал десятка полтора диких крякв, заполнил записями несколько толстых тетрадей в клеенчатых переплетах, наконец — вот эти шкурки, которым в Москве его препаратор вернет вид подлинных дятлов, чибисов и куликов.