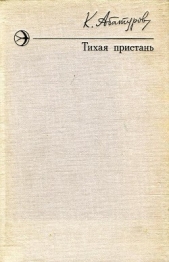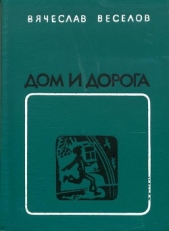Провинциальный человек

Провинциальный человек читать книгу онлайн
Верность земле, избранному делу, нравственная ответственность человека за свои помыслы и поступки — вот основные темы новой книги курганского прозаика, лауреата премии Ленинского комсомола, автора книг «Последние кони», «Пристань», «Поздний гость», «Избранное», «На вечерней заре» и др.В сборник вошли новые произведения, а также ранее увидевшие свет в уральских и столичных издательствах.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
А потом Дынька не пришла в школу восемь дней подряд. Я в библиотеку, а там — замок. Никто из ребят не знает, что с девочкой. Делать нечего, отправился прямым ходом к Седяевым. Но меня и во двор не допустили. Наверное, увидели, что я шел к ним. Вот и приставили ворота доской. А потом и хозяин вылез. Он взглянул на меня, как на муху, захохотал:
— Здорово живем, паралитик! — Это намек на больную ногу, я тогда сильно хромал, правая нога почти не сгибалась — колол дрова своей Шелеповой и пришиб колено. — Чего-о, ворота не нравятся? А мне они нравятся! — Это снова ко мне, хотя я уже повернулся в другую сторону. — Приходи еще раз. Жена моя сильно соскучилась. — Он издевался надо мной, как хотел.
— А зачем Ольга-то за такого держалась? Ведь видно все — прямо в зеркале... — Я не утерпел и прервал Женю на полуслове.
— Кто их, женщин, поймет. Они боятся быть одинокими...
— Ну, ты хоть в чем-нибудь грешен был? Ну хоть маленько, со спичечный коробок? — Он сразу надул губы, обиделся. А я про себя улыбнулся — эх ты, святой Евгений, святой Евгений. Какой ты был — такой остался. Красна девица гусей пасла. Но вслух сказал о другом: — Ладно, прости меня, пошляка.
— А ты не извиняйся. Раз ты прямо спросил, я тебе прямо отвечу. Привязался я к ним, как к родным. Особенно к этой, к маленькой. И жаль ее, тяжело...
— С жалости-то все начинается. Значит, влюбился в библиотекаршу?
— Зачем ты так? Прямо ногами бьешь...
— Нет, ты уж ответь.
— Не знаю... А может, это просто по-человечески... Сидишь, бывало, в библиотеке, приткнешься где-нибудь в уголке и вроде книгу листаешь, вроде даже что-то выписываешь, а сам весь там, где она. И такое тебя тепло охватит, жжет всего — так что это? Любовь-то, она поспокойнее...
— Может быть, может быть... — Я рассмеялся и он тоже, и этот смех сблизил нас, и я уж совсем забыл, сколько времени мы у реки, почему разлеглись под тополем. А Женя снова меня повел:
— И та, маленькая, все ближе ко мне, все ближе. Только подниму глаза от журнала, так и наткнусь на нее. А то сидит задумчивая, улыбается; спросишь — она как не слышит. А время уже наступало холодное, зимнее, пришел ноябрь, выпал желтый снежок. Он был, действительно, какого-то желтого, смутного цвета, какой-то непрочный. Пролежал ровно сутки и растаял, как не бывало. А потом начались ветра, а с ними такая тоска пришла, что я часто думал — схожу с ума. И только вечера выручали. Днем-то в школе, а вечерами я, конечно, в библиотеке. Как-то поручили мне доклад сделать о Пушкине перед населением Песчанки. Хорошее дело, конечно. Правда, кое-кому бы не о Пушкине лучше, а о том, как пить вредно, как деньги тратить с умом...
— Но ты о докладе начал...
— А я знаю. Этот доклад мне здорово обошелся... Решил я сделать его по-ученому, пусть, мол, думают, что новый-то учитель у них не хухры-мухры. Захотелось мне побольше рассказать о личной жизни поэта, захотелось письма его привести. Вот и собрался снова в библиотеку. И сразу нашел, что надо. Но все равно грех попутал. Да какой, правда, грех? Начал читать Ольге одно из писем — ну просто выдержку зацепил: «Пожалуйста, мой друг, не езди в Калугу. С кем там тебе знаться? С губернаторшей?» Особенно Ольгу заинтересовало, что Пушкин называл Наталью Николаевну простым русским словом «женка». Одно письмо его прочитал, она и второе запросила, потом и за третье взялись. А время идет. Когда тебе хорошо, то и гремя — не время. Вот и засиделись. И только часы одиннадцать прогудели, как в дверь — стук, ломится кто-то так, будто доски топором отрывает.
— Аха, курвы, закрылись! Я вот вас на снежок! — Это он кричал, Михаил Николаевич.
Лицо у Жени опять побледнело и передернулось. Он уж еле крепился и вдруг перешел на шепот:
— Вот и выследил нас Михаил Николаевич. Вот и застал голубков...
— Женя, если тяжело — не рассказывай. Я уже понял все.
— Ничего ты не понял! Ни-че-го! И не надо меня успокаивать. Я тебе все, как по ниточке. Я тебе самое главное расскажу. Как заорал этот Михаил Николаевич — так и прирос я к месту. И не встать мне, и головы не поднять. А он давай с полок книги разбрасывать. Прямо крушит все, прямо зверствует — то ли ревность в нем, то ли вино. Разбросал все, успокоился, а потом пошел на меня:
— Ты почему меня по отчеству не зовешь? То ли гордый, то ли забыл? Если так, то припомню... — Он поднялся в полный рост и сжал кулаки. Потом вздрогнул, точно проснулся. Подмигнул мне, полез в карман. Я думал, какой-нибудь пистолет-пугач вытащит или нож-складешек, но он вытянул бутылку. И опять подмигнул:
— Давай, учитель, поговорим. А то лаемся да рычим. Не собаки, поди, а люди... — Ольга потихоньку поскуливала, но он на это не обращал никакого внимания. — Давай, Ушинский, разольем да поднимем. Очень ты удружил мне, прямо в ноги паду тебе, буду пятки облизывать.
— А ты не смейся, при чем здесь пятки? — Я уж тоже пошел на приступ, но он будто не слышал.
— Давай выпьем за мою старость. Давай дуй прямо из горлышка.
— Какую старость?
— Ха-ха-ха!! Вы все передо мной — ребятишки. А мне сорок лет будет через неделю. Юбилей, ведь, аха? А ну подтверди, Ушинский! Что молчишь? Что, заелся? А к моей жене ходить — не заелся? Она у нас ничего-о — не откажет...
— Замолчи ты, бессовестный. Хоть бы язык отсох у тебя! — И Ольга заплакала. Я не выдержал и напал на него:
— Вы не стоите своей жены! Нет, не стоите! Вы — нахал, вас судить давно...
— Судить меня, говоришь?! — И он опять пошел на меня. Но Ольга заметила и повисла у него на руке. Что там было у них — я не знаю. Я уже был на улице... А на душе так, будто все там вымерзло. Будто схоронил кого-то сейчас... Нет, я не могу про это пока, я не могу — все во мне кружится, все болит, все ноет, так тяжело... Давай немного передохнем. А то мой роман не переслушать. — Женя посмотрел на меня тусклым взглядом, и глаза его подернулись серой усталой пленочкой, как у старика. И мы замолчали, отвернулись друг от друга. Зной не давал передышки. Правда, от воды шло легкое дуновение, но оно сразу таяло, почти не касаясь нас. Лицо Жени теперь было в тени, к только по частому дыханию я догадывался, как ему тяжело. Да он и сам признался:
— Как я ждал тебя! Думал — вот кто меня выслушает, вот кто вынесет мне приговор. А теперь дошел до самого, самого... И не могу говорить. Наверное, так же люди у следователя. Говорят ему, признаются, а как подступило к главному, так и пропали слова.
— Да какой ты, Женя, преступник?!
— Тебе хорошо, а я чуть не убил себя. Да, да! Было дело под Полтавой... Как-то встал на лыжи да взял ружье...
— И пошел в бор стреляться!
— А ты не смейся, не перевертывай. Я пошел тогда на охоту. Надо ж отвлекать себя. А то в голове только Ольга да Дынька — так можно и рехнуться. А денек был как по заказу. И весной потянуло, точно март постучался. А мне все равно тяжело. Тогда и в школе начались перекосы. Из районо приезжала проверка. Ко мне на урок напросились. Ну и зарубили под корешок мой урок. Обидно стало. И тему в журнале пишу не так, и в часы не укладываюсь, и опрос — не умею. Одним словом, опозорили. Правда, на разборе урока утешили — молодой, мол, научишься. А я не согласен с проверкой! Ну и житья мне потом не стало. И директор, и завуч в упор не видят... Вот иду тогда — и этот солнечный денек мне не мил. Почему так? Бывает, наверное, когда природа наоборот на нас действует? Тогда, чем лучше день, чем синее небо, прозрачнее — тем хуже нам, тем печальней душа. И вот мне худо совсем. Зашел в соснячок, оперся грудью на палки, набрал в себя побольше соснового воздуха, а продохнуть не могу. И стою так и думаю: а ведь сегодня мне суждено умереть. Спокойно так думаю, как будто во сне. Постоял немного, подышал чистым воздухом, и опять эта мысль пришла: давай, смотри вокруг и прощайся! И прощайся давай с белым светом, с белой снежной землей, а то ведь надо сейчас умирать. Но почему же сейчас? И как только сказал это «сейчас», так и начал себя же бояться. Стою и к себе прислушиваюсь — что там во мне, что со мной? Вот уж дыханье зажал, вот уж воздуха нет, вот уж глаза у меня закрываются, а прислушаюсь — нет, живой еще, руки-ноги все ощущают. Может, с ума я схожу? Нет, в уме еще. Но все равно эта мысль привязалась и не отвязывается. Может, мол, тут в лесочке и суждено... А что все-таки суждено? И вот опять себя слушаю и опять. И чем больше так — тем страшнее мне. Помню, сорока прилетела бесхвостая. Я ружье вскинул, прицелился. А потом задумался: зачем бить ее? Спохватился, значит, и поставил ружье к ноге... Что же делать? Может, надо из деревни этой уехать, из этой школы сбежать?.. Стою так, размышляю, а ружье у бедра. И не знаю, как получилось, но только заглянул я прямо в ствол, прямо в черное дуло я заглянул. Иногда люди в колодец заглядывают — и манит их бездна, привлекает. Так и я — точно в колодец заглянул... И думалось уже — нажми сейчас на курок, и придет облегчение. И ради этого облегчения, только ради него, я чуть не нажал. Даже курок потрогал, но страха не было. Было только недоумение: как мало надо, как слаба наша жизнь. Нажми — и все кончилось. И даже представил себе, как лежу и как мучаюсь. Как правую руку откинул, а левую подобрал под себя. А возле головы моей — пустота, вернее глубокая вмятина, и снег там влажный и розоватый и даже подтаял слегка. Это — от моей теплой крови, это от крови моей, а самого меня уже нет, уже нет. И в голове опять бессвязно и пусто, и в этой пустоте-то могло бы все совершиться. Наверно, так и бывает: вначале бездумье и пустота, а потом провал в памяти, смерть. Так бы и случилось, наверное. И случилось бы обязательно, потому что я думал уже, представлял, как этой смертью облегчу всех — и Ольгу с мужем, и школу, и сам облегчу себя и уйду. И я опять посмотрел в ствол, и не знаю до чего досмотрелся бы... Но в этот миг совсем рядом раздались голоса, прошли по лыжне ребятишки, и только прошли — стали оглядываться. Еще немного пройдут — опять оглянутся. И догадался я, что их мой вид останавливает. Тогда я поднял руку и помахал им бодро, успокоительно. А потом ружье на спину забросил, и они сразу засмеялись громко и побежали. Голоса зазвенели, как колокольчики, и сразу ожил я и себя обрел. Вдохнул воздуха, поднял палки. И вот уж лыжня опять поскрипывает, и снова живой я, как будто проснулся. И вышел в поле и огляделся. Я и сейчас помню это белое поле. Оно обступило тогда меня, испугало. Я вдруг с ужасом понял, представил, что хотел сотворить.. И еще я почувствовал, понял твердо, что этот день у меня все равно самый последний, итоговый, а завтра все будет иначе и не так — по-другому. Завтра я буду уже другим человеком, а может, просто куда-то уеду. И я пошел быстрым шагом в деревню. И в первом же переулке увидел Ольгу. Я бросился к ней, как безумный, и стал ее целовать...