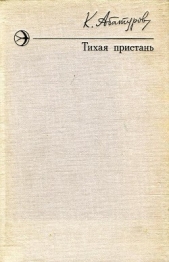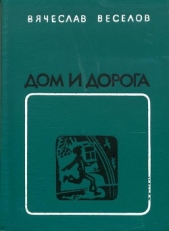Провинциальный человек

Провинциальный человек читать книгу онлайн
Верность земле, избранному делу, нравственная ответственность человека за свои помыслы и поступки — вот основные темы новой книги курганского прозаика, лауреата премии Ленинского комсомола, автора книг «Последние кони», «Пристань», «Поздний гость», «Избранное», «На вечерней заре» и др.В сборник вошли новые произведения, а также ранее увидевшие свет в уральских и столичных издательствах.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
— Ваша дочь пропускает уроки...
— А ты нам не указывай. Вот будут свои — тогда и командуй...
— Но я же учитель. И вам нужно заняться дочерью.
— Нужно, нужно. А тебе нужно двери закрыть с другой стороны!
— Вы — хам, хулиган! Вы надо мной издеваетесь. — И помню, что почти захлебнулся от злости к нему, от презрения. Но он и слушать не стал.
— Ты запомни: зовут меня Михаил Николаевич. В другой раз, как заходишь, так в двери постучи — здесь живет Михаил Николаевич? — И он захохотал во все горло. И пока он кричал на меня, жена его сидела в одной позе, у занавески.
Так я и ушел ни с чем. Помню только — Дынька смотрела на меня, как на нищего, и глазами меня жалела, и всем существом своим, и все в ней кричало от жалости, сострадания.
А на улице уже был настоящий осенний дождь. Как тяжелы такие дожди и печальны! И под ногами хлюпает у тебя и под сердцем тоже что-то отрывается, хлюпает, и уже представляешь, что ты самый несчастный, самый горький на свете. И уж кажется, что нет хуже твоей работы и даже самая страшная тюрьма все ж лучше твоей судьбины. И еле-еле дошел я тогда до Шелеповой. Толкнул дверь, а она закрыта. С большим трудом достучался — старуха-то была глуховата. И пока стучал в дверь, пока она возилась с засовом, я уж совсем вымок и просто обезумел от обиды, от горя и думал о том, что где-то сидят сейчас люди в белых чистых квартирах, а я стою под самым потоком и мокну, как лошадь. И не слыша ног от усталости, пробрался в свою комнатку и упал на кровать. Только стал засыпать, как слышу — кто-то ударил. Как будто камешек бросили, потом опять бросили. Подошел к окну — тихий голос через стекло:
— Открой, учитель! Не бойся... — Потом пропал голос, будто растаял в дожде. Я затаил дыхание и стал выжидать. А сам дрожу, как от холода. А может, уж от страха дрожу? Кто это? Кому я понадобился? Ведь середина ночи и такой дождь обложной. — Откройте, Евгений Иванович! Хоть на минутку, — потом уйду... — Это уж меня по имени-отчеству. Почему-то имя-отчество успокоило. Я набросил плащ и пошел на крыльцо. — Это — я, я! Седяева... Вы не бойтесь, я просто так... — Но в голосе у самой столько страха и унижения, что мне стало не по себе.
Я провел ее в свою комнатку, а хозяйка моя все лежит и похрапывает. Как хорошо порой спится под дождь. Моя гостья плотно закрыла дверь и щелкнула выключателем. Свет был лишним, он больно давил на глаза. Но я был в каком-то оцепенении.
— Ну, теперь узнаете? Мать я Нины Седяевой. Боже мой!.. Вы только что были у нас, ведь только что... — Она сбилась, опустила глаза. Потом заговорила низким сдавленным голосом. — Нехорошо вышло с мужем-то. Вы простите нас, а то еще начнете мстить моей Ниночке... — Она опять сбилась, а я молчал, как будто все это происходило во сне. И я злюсь на себя, но нет пробуждения, а она опять говорит: — Дочка плачет, и сама я расстроилась. Вы простите уж, я не знаю как. Я не знаю... — А с платья у нее стекала дождевая вода, и волосы тоже мокрые, и по щекам бегут капли. Она хотела причесать и поправить волосы, но почему-то смутилась и передернулась. Как будто это ее унижало, пугало, как будто она была виновата в этом дожде. Я видел, что она уже посинела от холода, но у меня не было даже чаю, да и в комнате — мозглота. Вот так, дорогой, ситуация — ночь, дождь кругом и незнакомая женщина... — Женя хмыкнул и сломал в ладонях тополиную веточку. А зной все сильней, все сильней. И в воздухе уже стояла тяжелая глухая тревожность, какая бывает часто перед грозой. Чаечка уже улетела куда-то. Наверно, надоело ей смотреть на двух дураков.
— Женя?
— Чего?
— Зачем ты вызвал меня? И зачем ты все громоздишь? Какая-то женщина, Дынька, какой-то дождь...
— Должен же я рассказать...
— Вот жене и поведай своей.
— А ты злой, Коршунов! — Он назвал меня по фамилии и как-то отрывисто посмотрел. А в глазах неуверенность. И это совсем расстроило меня. Что-то в нем теперь мне не нравилось, а что именно, я понять не мог. Может, сама исповедь надоела. Да и не привыкли нынче мы к таким откровениям. И все некогда, и жаль нам времени, и не хочется отвлекаться на рассуждения. А со мной — даже хуже того. Не люблю длинных и внезапных признаний, все кажется, чудится: лгут в них люди, не договаривают. А лгут потому, что грешны были и виноваты, а сейчас надо заделать все трещины, чтобы потом еще больше грешить. Но то люди, а этот — ребенок. Какие уж у нашего Евгения женщины и ночные стуки в окно. Слишком чистый он и святой. И свежий весь, как алма-атинский апорт. И даже сердиться-то он не умеет. Только топорщит губы, как большое дитя. И я смотрю на его губы и улыбаюсь.
— Ну что замолчал? Как там гостья-то? — Женя сразу встрепенулся и засмотрел благодарно. А я опять ему: — Ты прости, что обидел...
— А ты не обидел. — Он дотронулся до моего плеча. Была у него такая манера — протягивать вперед ладонь и дотрагиваться до плеча. Он улыбнулся и снова стал говорить:
— Гостья-то моя вдруг осмелела и стала как пьяненькая. Наверное, у нее температура началась: прошла по дождю и по ветру, вот и продуло насквозь.
— Вы, — говорит, — не сердитесь на мужа, не надо. Он только ревнует меня, унижает. Вот и сегодня по лицу съездил. Он только раз и ударил-то... — Она стала оправдывать, защищать его и вдруг призналась глухим горьким голосом: — Он ведь с дочкой принял меня. Я разве виноватая, что от мужа с дочкой осталася. А первый муж у меня погиб. Он шофером был, вот и случилось в дороге... А дочка к отчиму привыкнуть не может, он и за это злится, а злость опять на меня. Он и к вам стал ревновать из-за доченьки. Все, говорит, у Нинки в голове — учитель, учитель. Вот и невзлюбил вас до смерти... — И пока об этом рассказывала, то все время краснела, бледнела и вела себя как робкая школьница. И вдруг руку пожала мне: — Я бежала к вам, волновалася, а теперь легче стало, даже легко...
— Что легко?
— Извинилась за него, и легко. — И опять руку жмет, улыбается: — Что не так — не ругайтесь... Уж такие мы... — И совсем смутилась и выбежала. А мне подумалось: «Как же она? Побежала на холод, на дождь, ведь простудится...»
Ветер опять стучал ставнями. Уснуть я не мог. Даже утро не принесло облегчения. За окном снова дождь, и ветер надувает мокрые простыни. Их настирала моя молчаливая Шелепова. Странная она — все молчит, что-то шепчет. Как колдунья или порченая.
Пришел я в школу и сразу заметил Нину Седяеву. Она смотрела на меня нежно, доверчиво, и я тоже на нее так посмотрел. И сразу лицо ее стало лукавым и понимающим, и Нина сразу как бы созналась мне, что все знает, догадывается, где была ночью ее несчастная мать. Я боюсь такой мудрости у детей. И на уроке она все время тянула руку и задавала вопросы. А я говорил с ней и глаза отводил: почему-то было стыдно этой смешной, круглой девочки. А за окном уже летели белые мухи — первый снег, самый первый. Он таял в воздухе у земли. И в этом снеге иногда пролетали галки. Они садились в школьном саду на деревья и чистили перышки. Как хорошо им! Я смотрел на них через стекло и завидовал их вольной жизни, полету. После уроков побрел в магазин и набрал вина. Когда зашел в магазин, вся очередь оглянулась на меня с явной ухмылочкой. Все что-то знали и осуждали. А потом по этим взглядам, по шепоту я понял: моя хозяйка разболтала, что ночью ко мне приходила Ольга Седяева. С этой минуты и начались мои ужасы. Даже Дынька стала сторониться меня, избегать...
— Что ты, Женя, сказал про ужасы? — Я перебил его, а почему — сам не знаю. Но он сразу обиделся:
— Вижу, тошно тебе! А я-то надеялся... Понимаешь, я сейчас говорю с тобой и вроде что-то решаю. Понимаешь, мне надо понять себя.
— Ну ладно, прости...
— Да дело не в этом... Ну, вот я и сбился.
— Ты про Дыньку начал. Как сторониться стала, как избегать...
— Вот именно — избегать. Но только недолго так было. Я каждый день стал заходить к ее матери. В библиотеку, конечно... Зайду, а она вроде стушуется, замолчит, и люди посторонние сразу к двери спешат. Вроде как создают нам условия. А я назло стал заходить. Каждый день. И почему-то Дыньке это понравилось. Она опять посматривала по-прежнему, и глаза ее выделяли меня из всех. Даже стишки свои показала. Нескладные и смешные. И на уроках моих подтянулась. Особенно любила писать короткие сочинения — как зима пришла, как окутались снегом деревья, как снежную бабу дети слепили. Я ей ставил одни пятерки, а если бы можно, то поставил бы больше. И постепенно привык к Дыньке так сильно и так к ней привязался, как привязывается человек к своей самой близкой кровинке и потом уж не может жить без нее — все время рвется к ней и тоскует. Даже дошло до смешного и ужасного. Я стал мечтать, представлять себе: вот бы погиб ее отчим-алкоголик, и я взял бы обеих в свой дом, и стали бы жить все вместе и ничего мне больше не надо. И так порой разойдешься, что даже жалко станет себя — почему в жизни все бывает не так, как хочется? Почему мы не с теми, с кем надо?