Большая родня
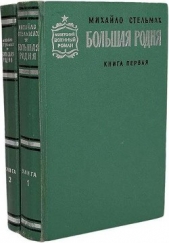
Большая родня читать книгу онлайн
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Мать ждала его, дождаться не могла.
— Да задержался же ты, Дмитрий.
— Задержался? А я и не заметил, — улыбнулся, только так, что вздрогнула складка у губ на правой щеке, даже нижнюю губу поджал к верхней, чтобы не заметила сдержанного волнения. Да разве спрячешься от всевидящего ока, утаишь что? Уже когда он входил во двор и посмотрел на нее, — ощутила, что легче стало на его сердце, и скупая радость, перемежаемая неусыпной заботой, заколыхалась в груди.
— Иди, сынок, ужинать.
Дмитрий пошел в хату, а она, освещенная лунным сиянием, стояла посреди двора, невысокая, упругая, с несогнутым станом. Из-под кички выбивалось две пряди волос и тенями облегали высокий лоб, заборонованный летами. Сквозь узорчатое тонкое полотно морщин еще тихо просматривалась увядающая красота, как в осенний день сквозь сетку паутины просматривается в тени калиновая гроздь.
XXІІІ
Огонь гаснул, и черные челюсти печи, как раскрытая пасть, светились красными зубьями угольков. Иногда синий зубчатый гребень пламени, пробиваясь снизу, проскочит по сизо-горячему углю, и тогда на стенах раскачивались три тени. Югина проворно бегала по хате, собирая на стол миски и ужин. В углу под образами сидел Иван, возле него Марийка, натруженная дневной работой и довольная, что, в конце концов, муж привез в овин яровые.
— Вот у меня уже и сердце встало на место — ни дождь не намочит полукопны, ни скот не растреплет.
— У тебя оно, сердце, такое: пятьдесят один год становится на место и столько же соскакивает, — студит похлебку в ложке Иван; и вытянутые трубкой губы шевелят обрубками коротких усов.
Но Марийка сегодня размякла, как воск, и даже не думает подколоть словом мужа. Конечно, урожай лежит в закромах, на поляне просо (сегодня под вечер ходили смотреть), хоть и жидкое, однако без голавля и метелки имеет большие. И вдобавок завтра воскресенье, можно встать позже, так как, говорил же тот, есть за кем отдохнуть: вырастила дочь бойкую, работящую.
— Садись ужинать, — ласково осветила взглядом всю фигуру своего единственного дитяти.
Югина примащивается возле матери.
— Вот если бы скотина, чтобы озимые после жатвы бросить в землю. Вишь, на раннем в этом году уродило, а на позднем — голой косой ткнуть. Всякая былинка, как человек, тепло любит, — осторожно несет из миски ложку Марийка.
— Хе. Даже баба может дело сказать, — прислушивается Иван.
— Может, неправду говорю?
— Кто же говорит? Вот наши с соза должны скоро получить скотину, инвентарь.
— Ну и что с того?
— Как что? И мы вовремя засеем.
— Таки не выписался? Обманул меня. Сколько тебе говорила!.. — поднимает голос.
— И не выпишусь. Ты мне эту трескотню оставь. Вот настропалили кулаческие подпевалы… Хватит ежедневно кланяться в ноги за свое кровное: вспашешь поле — отрабатывай, привезешь какую-то там копу — отрабатывай. Из леса ломаку притянешь — отрабатывай, — весь век отработки съели. Из старцев хочется выбиться. Не кривись, Марийка, ибо не поможет.
— Деды наши жилы — соза не знали, родители наши жилы — соза не знали, и мы без него проживем! — как заученное вычитывает Марийка и уже начинает постукивать рукояткой ложки по столу.
— Мы и без барской земли в долг жили, но не захотели так век коротать.
— Земля — одно дело, а соз — другое дело. На трясцу он мне сдался. Вишь, как люди негодуют на тебя. Никто скота не дает.
— Разве то люди? Это кулачье.
— Кулачье — не кулачье, а выписывайся.
— Нагадай козе смерть. Тебе не нужен соз, так Югине нужен. И ее сгноить на чужой работе хочешь? Пустишь на заработки, как сама когда-то чумела? Если мы и нутро, и жилы подорвали на чужом, так пусть хоть дети не обрывают. Хватит вечными батраками быть.
Знает Иван, чем сразить жену, и Марийка осекается, со вздохом посматривая на дочь.
— Смотри же, если не той, то выписывайся скорее.
— Еще что скажешь?
— Вы не бойтесь, мама, общее возделывание земли — только облегчение для нас. Это на комсомольском собрании докладчик из области говорил! — отзывается Югина и краснеет, что так неумело, неубедительно сказала. Неловко взглянула на отца, а тот, ободряя ее, кивнул головой. — В Ивчанце люди хорошо работают совместно. Очень хорошо. Не нахвалятся своей жизнью.
— Умная не на свои года стала. Выйдешь замуж, тогда хоть в коммунию записывайся. — Сердито уходит в другую хату.
— Хе! Значит, вместе будем, дочка, мать пугать, — улыбается Иван Тимофеевич. — Только не из очень пугливых она у нас. Драгун да и только. А про Ивчанку ты правильно сказала. По-новому люди начали жить. Дружно. Агроном помогает. Куда нашим урожаям до них.
Потянулся за свежей газетой. Загрубевшие пальцы осторожно, с приятностью развернули пахнущую бумагу, уже покрытую ворсинками пыли. Газета для Ивана Тимофеевича всегда была светлым праздником. Она не только соединяла его со всем миром, а поднимала над будничными хлопотами; не говорила, — пела наиболее дорогие слова, раскрывала те дороги, куда тянулся всей душой. В его глазах не обесценивались даже прочитанные газеты — к ним относился любовно и осторожно прятал куда-то подальше от ухватистых Марииных рук.
— Чего Софья к тебе прибегала? — шевельнулась запоздалая догадка, когда увидел молодежную страницу.
— В райком с нею пойдем.
— В райком?
— Нам будут вручать комсомольские билеты, — ответила с гордостью и волнением.
— В добрый путь, Югина. — Встал из-за стола, коренастый и торжественный. — Достойной будь, дочка. Чтобы не только родители гордились тобой. — Наклонился над девушкой, поцеловал в голову крепкими, перепеченными губами.
— Спасибо, отец, — признательным и сияющим взглядом посмотрела на него и крепко прижала к груди тяжелую наработанную руку отца; была она сейчас темная и теплая, как прогретая вечерняя нива. Нежным дыханием вызревшего хлеба веяло от нее. Югина даже сквозь блузку, у самого сердца чувствовала твердую резьбу работящих надежных жил. — Я так и знала: вы порадуетесь. Душа у вас такая… чистая, кроткая…
— Нет, дочка, — промолвил задумчиво. — Не кроткий твой отец. И не хочет таким быть. Не до того нам теперь. Оставим кротость старым бабушкам, которые собрались идти в далекий путь. А нам еще до крови надо биться за настоящую жизнь. С кулачьем воевать… Душа у меня, чтобы ты знала, шершавая, как холст — тот, который болящими пальцами выпрядался и ткался в бессонные нищенские ночи. И светлая у меня душа, как холст, отбеленный весенним солнцем. Наше государство с семнадцатого года белит его своим лучом.
Югина удивленно широким взглядом смотрела на отца.
— Чего удивляешься? Не надеялась такое услышать? Это не я, Югина, а правда наша говорит. Гляди, чтобы правдивой мне была во всем, такой, как комсомол тебя учит. Ибо разве то человек, если все в нем серое: и душа, и мысли, и взгляд. Если перепелка серая — это красиво, а если человек такой, то… Ну, иди уже отдыхать…
— Отец, значит, вы теперь со Свиридом Яковлевичем во всем заодно?
— Мы всегда с ним заодно, — перебил, хотя и знал, о чем спросила Югина. И, уже помолчав, прибавил: — Угадала ты. Думаю, дочка, в партию вступать, — впервые высказал самые сокровенные мечты. — Вот поставим соз на ноги… так, чтобы открыто можно было людям в глаза смотреть… и поеду со Свиридом Яковлевичем в райпартком…
— Куда же мы тогда нашу маму денем? — весело сузила глаза.
Иван Тимофеевич засмеялся:
— Это не маленькая загадка. Непременно с женделегатами посоветуйтесь… ее надо к какому-то ледащему начальству приставить: она его или работать заставит, или навеки выживет, сточит своим язычком…
К оконным стеклам припала темно-синяя ночь, шевеля перетертыми льдинами облачков.
Ровно задышал Иван, и Марийка со страхом увидела, что его руки скрещены на груди. Торопливо разъединила их и долго не могла остановить в груди болезненный стук.
Луна неслышным броском посеяла в дом бледное сияние, и на полу зашатались черные переплеты рам. С тревогой смотрела на такое родное, даже во сне насмешливое лицо мужа, который и в пору их встреч своими шпильками, настырностью не раз доводил ее до слез, да и теперь не изменился. Даже его неизменное «хе» не уходило с годом, а еще больше укоренялось, становясь и радостным, и раздумчивым, и грустным, и злым окликом.

























