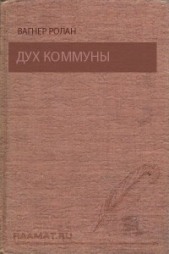Генерал коммуны. Садыя

Генерал коммуны. Садыя читать книгу онлайн
В новом романе «Генерал коммуны» писателя Евгения Белянкина по-прежнему волнуют вопросы общественного долга и гражданской смелости. Герои романа — агроном Сергей Русаков, человек твердого и решительного характера. Большое внимание писатель уделяет теме преемственности поколений. Жизненный подвиг отца Русаковых находит свое продолжение в делах его сыновей — Сергея и Ивана Русаковых.
Роман «Генерал коммуны» по идее и судьбам героев перекликается с романом «Садыя», написанным автором ранее. В свое время журнал «Молодой коммунист» писал о нем, как о романе, полном поисков и трудовых дерзаний нефтяников Альметьевска, а героиню его — секретаря горкома Садыю Бадыгову — журнал назвал прямой наследницей сейфуллинской коммунарки.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
«Вот и прошло твое время, товарищ Волнов… — постучалась к Петру Степановичу сполошная мысль. — Жизнь она того: то вознесет высоко, то в бездну бросит. Он, выходит, выиграл, он зорче. У него получается, получается быть самим собой…» — вспомнил Волнов свои же слова.
— Русаков нужен колхозу, Петр Степанович. — Батов встал с дивана, заходил по кабинету. — Он должен работать. Мы же сами говорим о творческом подходе к делу, к людям. Я по себе знаю, как это трудно, на одних циркулярах здесь далеко не уедешь. Кстати, и они пересматриваются! Все течет и ширится, как в разлив. Попробуй-ка такую жизнь загнать в опоку? И граней в ней много — не всегда все предусмотришь… Вот так, Петр Степанович! Не принимай как личную обиду мои советы. Давай не поддаваться самолюбию. Отложим лучше вопрос о Русакове на некоторое время. Закончится уборка, тогда и вернемся к нему. Мне кажется, пройдет твоя горячка и ты поймешь… Ну, по рукам?
Сказав «по рукам», Батов не протянул, однако, свою тяжелую руку Волнову — либо побоялся, что тот не возьмет ее, либо забыл это сделать.
Волнов поднялся уходить.
— Все понял, Михаил Федорович, — холодно сказал он. — Выходит, Русаков восторжествует, а я…
— О себе ли нам думать, Петр Степанович!
Когда за Волновым закрылась дверь, Батов грустно усмехнулся: «Обиделся, а зря».
42
Кузьма Староверов, когда ему не спалось, частенько выходил в сад покурить. Ночи стояли теплые. Тишина невероятная: любой шорох слышно, даже всплеск на речке.
Сидел Кузьма на скамеечке, попыхивал папироской, и от нее в темноте — еле заметный огонек: то вспыхнет, то погаснет.
— Ты что, скоро кончишь полуношничать?
Настроение у Кузьмы лирическое:
— Старуха, слышишь, как лягушки квакают? Это потому, что теплынь. Вот певцы — сопрано! Ночные жаворонки.
Слово «сопрано» Кузьма услышал впервые от дочки.
— И интересно тебе здесь сидеть одному? Весь продымился. Спать бы лег…
Кузьма неторопливо прошелся по саду, потом через двор в сени, хотел было приоткрыть дверь на крыльцо. Но дверь под его нажимом что-то не поддавалась. Кузьма плечом ее — не поддается и все. Неужто озорники палкой приперли? Нажал еще. Поддается, но идет медленно. Кузьма посмотрел в прощелину, через нее заглядывало небо, и ахнул. Посреди крыльца, упираясь в дверь, распласталось что-то белое. Кузьма оторопело стал вглядываться: вроде человек в одном нижнем белье.
— Марфа, Марфа…
— Да что ты, полуночник старый?
— Не то пьяный, не то убитый.
— Да бог с тобой, иди спать.
— Я те говорю. Не то пьяный, не то убитый.
— Где убитый?
— Да там, на крыльце.
Марфа встала, пошлепала босыми ногами по холодному крашеному полу. Долго искала шлепанцы.
— Может, тебе приснилось?
— Дура, самой приснилось!
— Да кому сейчас озоровать-то? Да тише, буйвол, Катеньку ненароком разбудишь…
Кузьма с трудом открыл дверь. В руках Марфы лампа. Увидели оба: фигура в белом.
— Кузьма, никак человек?
— Что я тебе, старая, долдонил.
И вдруг лицо Кузьмы перекосилось в злобе. Кузьма ударил сапогом по чучелу в белом и сплюнул.
Старые в заплатках кальсоны и белая рваная холщовая рубаха сшиты вместе и набиты соломой. Кто-то постарался для Кузьмы.
Несколькими ударами сапога распластал Кузьма чучело и столкнул его с крыльца. Переваливаясь, оно покатилось по ступенькам.
— Вот я ей задам, девке!
— Ладно, успокойся, — тащила его за рукав Марфа, — иди, старый, спать. Будет утро, будет и разговор.
— А люди-то увидят, что скажут?
Чучело в кальсонах и рубахе называлось у александровцев «холщовый человечище» — предупредительный знак тем, у кого есть дочь: мол, не задумываясь, выдавайте замуж, если не хотите ляльку.
— Я ей дам ляльку… — еще не утихомирился в горнице Кузьма.
И только Катенька безмятежно спала безвинным и крепким сном молодости.
43
После короткого ливня крыши домов были покрыты нежным зеленым глянцем; солнце веселыми брызгами прыгало по мокрому железу. Воздух, напоенный свежестью, казалось, был весомее и чище.
Александровка утопает в садах. Над проулками висит прозрачная, обмытая дождем антоновка… Почти до земли клонятся ветки под тяжестью спелых яблок — аниса, грушовки… Белый налив давно сняли, уж больно хорош он в этом году, возьмешь в руки — лопается.
При малейшем дуновении ветерка яблоки падают… Вся земля усыпана ими, а у плетней по скату целые залежи. Яблоки здесь нипочем — бери, сколько твоей душе угодно, никто и слова не скажет.
От уличных ручейков следы. Еще бегают босые ребятишки, слышны голоса: «Дождик-дождик пуще…»
Над Хопром повисла радуга. Пьет она жадно воду, пьет, чтобы потом полить совсем чужие, не александровские поля, полить хоперской, сладковатой на вкус влагой.
Прошумел ветер, унося дождевые тучи. Затихли промокшие за Хопром сосны… Нет дождя. Ушел дождь за Хопер в сторону Тамбовщины. И только лиловая полоса на горизонте говорит о недавнем его нашествии…
Сомнения теперь казались не так уж и страшными. В Русакове зажглась та самая звездочка, которую называют верой. И зажглась не только для него одного: хорошо, что ты — не один в поле воин.
Сергею стыдно при одном лишь воспоминании: и это он подумывал удрать из села?
44
Петр Степанович выпил. В гостях у него был Романов, только ушел. Перебирали прошлое, о чем-то спорили… Петр Степанович силился вспомнить, что именно говорил он, но как ни напрягал мозг, вспомнить не мог, и это беспокоило.
Помнит лишь, что, прощаясь, сказал:
— Когда человек открывает людям что-то, то мало кого интересуют его усилия, затраты, а может быть, и жертвы… Всем важен конечный результат. Да, ради дела, цели или мечты часто приходится жертвовать — близкими, любимыми, веселой жизнью. А она — красивая жизнь — где-то там, далекодалеко от тебя… Ты служишь обществу за тридевять земель от нее, трясешься в задрипанном «газике», месишь сапогами грязь и только иногда вспоминаешь, что есть она где-то, красивая жизнь…
Так, или примерно так, сказал. Ничего опасного, ничего такого, к чему может придраться второй секретарь.
Петр Степанович хотел позвать жену, чтобы постелила на диване, но жены не было дома — ушла к родным или в кино. Дремал в кресле пока не кончился день. Вечером тщательно умылся и, освеженный, сел к столу. После недолгого раздумья подвинул лист бумаги и написал письмо…
Оно легло сразу, без исправлений. А между тем было в серьезный адрес — в ЦК. Петр Степанович помахал письмом, для чего-то подул на него и спрятал в папку для дел. «Вот так-то лучше будет», — пробормотал он.
Не теряя ни минуты, он достал затем небольшой чемодан и сунул в него свою папку, кое-что из белья, мыло, зеркальце, бритву — и, захлопнув с шумом крышку, опять проговорил: «В область — так в область! И не когда-нибудь, а завтра!»
На другой день утром он уехал в область.
45
В Пензе Волнов первым делом позвонил закадычному приятелю, однокашнику. В управлении сельского хозяйства Глебова не оказалось. Решил было нагрянуть к нему домой, но тут же передумал. Взял такси и поехал в облисполком. Заместитель председателя облисполкома Сазонов был занят — совещание. Волнов прошел в зал ожидания.
— Есть ли смысл вам ждать Владимира Ивановича? — спросила секретарша. — Напишите ему о деле страничку, и я передам.
— Он нужен сам, — холодно ответил Волнов и отвернулся.
Ждать пришлось долго. От нечего делать Петр Степанович в десятый раз обдумывал слова, которые должен сказать.
«А может, некстати приехал? — вдруг подумалось ему. — И зачем? Кому насолить-то решил? Не лучше ли сейчас встать и вернуться вечерним поездом домой? Не проще ли согласиться с Батовым, уступить Русакову?»
От этой мысли Волнова покоробило. Простить Батову?..