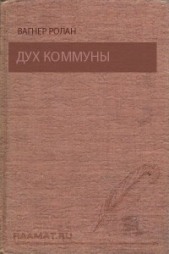Генерал коммуны. Садыя

Генерал коммуны. Садыя читать книгу онлайн
В новом романе «Генерал коммуны» писателя Евгения Белянкина по-прежнему волнуют вопросы общественного долга и гражданской смелости. Герои романа — агроном Сергей Русаков, человек твердого и решительного характера. Большое внимание писатель уделяет теме преемственности поколений. Жизненный подвиг отца Русаковых находит свое продолжение в делах его сыновей — Сергея и Ивана Русаковых.
Роман «Генерал коммуны» по идее и судьбам героев перекликается с романом «Садыя», написанным автором ранее. В свое время журнал «Молодой коммунист» писал о нем, как о романе, полном поисков и трудовых дерзаний нефтяников Альметьевска, а героиню его — секретаря горкома Садыю Бадыгову — журнал назвал прямой наследницей сейфуллинской коммунарки.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
— Что не того? — рассердился Остроухов.
— Я о другом. Пришлют ли толкового?
— Мало ли кто там не хочет, — не понимая Степанова, заливал Остроухов. — Живы будем — не помрем, так, Хорька? Еще одну, маленькую. Ну что ты сегодня не этакая, какая-то чудная, вроде и не Хорька!
Слушала Хорька, а сама действительно была вроде и не Хорька. Вскинет взгляд на пьяного Остроухова, и на душе — раздумье, горькое полынное раздумье.
«Все пройдет, Хоря, и это пройдет, — в ушах стоял голос Аграфены. — Кому ты будешь нужна, где голову приклонишь?»
«Знаю — никому».
Сказать-то сказала…
«Надо, Хоря, в руки себя взять. Может быть, твое счастье где-то недалече, теряешь его?»
«Нет моего счастья. Отняли его у меня. Ну что? Тебе, тетка Аграфена, легче от этого? Успокоила ты меня?»
«Ну, зачем так, Хоря…»
Давно так ласково никто не говорил с Хорькой.
«Война — не было бы обидно. А то — других спасал. А кто его спас? Его кто спас?»
«Детей он, значит, спас, Хорька!.. Ведь сколько детей погибло бы, если бы не он… А материнских слез пролилось бы сколько?..»
Хорька очнулась от крика Остроухова.
— Зачем это тебя Чернышев к себе вызывал?
— Так, по своим делам.
— Ой ли? Кое-что мне известно. Не обо мне ли был разговор, а? — и глаза механика сузились.
— Может быть.
— Не скажешь?
— Не люблю я звонить, — с досадою воскликнула Хорька и воровато глянула на Степанова.
— А ты скажи. Не бойся, все свои — скажи…
— Жена твоя, что из Вязонок, письмо прислала. Она так же, как и я, — баба и, представь, любит тебя… Бабья жалость… А как же твоя здешняя ничего не знает, что у тебя на стороне еще жинка объявилась, а? Аль ты и с этой зарегистрирован и с той тоже? А алименты никому — здорово!
— Ты не дури! Ясно? Не дури! — с угрозою произнес Остроухов и заерзал на стуле, — ишь ты, цаца…
— Ага, по-другому заговорил…
— Ревнуешь, баба… А с Чернышевым небось о другом лясы точила.
— Как же, ревную. Двух имеешь— третью захотел.
— Об этом мы еще поговорим, — с ударением на слове «поговорим» сказал уже без энтузиазма Остроухов. И с наигранным возмущением обратился к Степанову: — Вот видишь, одно слово — бабы. Надеюсь, что все, о чем говорено здесь, наружу не выйдет! — просительно прибавил он.
— Клянусь, пусть гром меня… — сейчас же поклялся перепуганный возможным скандалом Степанов.
Хорька только повела плечом.
— Видишь, — зло бросил Остроухов, — уже подкапываются. Честного человека надо грязью облить. И Хорьку втянули. Подумаешь, все святые. Я брата Русакова вот этими руками хоронил. Но Волнов на эту удочку не клюнет. Район, это, брат, сила! Понял?
— Ты напрасно, Леонид Алексеевич, все усложняешь…
— Дурак ты, Степанов, хоть и зоотехник. Не на собрании мы: твое одобрение не требуется. Давай лучше выпьем. А Хорька еще наплачется. Возьму и не приду… и баста.
Остроухов задержался в сенях, обдавая Хорьку неприятным водочным запахом.
— Хорька, смотри у меня.
— Сколько веревочке ни виться… Конец должен быть.
Ушел ненавистный Остроухов. Хуже репейника. «Подумаешь, все святые». Задернув занавеску, Хорька достала из-за зеркала письмо — осторожно, очень осторожно развернула, как самую дорогую память. Было оно единственное и последнее. Разложила, разгладила ладонью листок и к свету подошла, чтобы каждую поблекшую от времени строчку разглядеть.
«Мне кажется, что я знаю тебя, как себя. Как сейчас встаешь ты передо мною в своем синем платье… Помнишь, мы шли с тобою из военкомата, шли молча, и очень грустно. Ты отворачивалась, вытирала слезу…»
Уж давно и в помине нет этого синего платья, давно высохла грусть, да и слеза стала горше — запеклась слеза… Потом и забылись слезы — одна пустота, одна пустота…
Что ж, теперь все чаще стала видеть себя Хорька в этом синем платье. Красивое платье, уж так нравилось ей это синее платье.
Он, молоденький солдат в отпуске, прямо к ней приехал. Тогда еще мать была жива. Отец-то сразу, с первых дней войны погиб. Увидела мать его у порога: «Тебе, голубчик ты мой хороший, кого?» — «Мне вас, тетя. А еще — Хорю…»
Выбежала она, Хоря, и испугалась. От изумления попятилась было назад. А он улыбается, в глазах — радость встречи. Обнял, и так легонько, и так нежно. Поцеловал в губы. Зарделась вся. При матери-то! Потом за стол посадили его. Чарку ему. Ел с аппетитом, и все поглядывал на нее. Счастливая ты была, Хорька!
Пять дней побыл, затем в военкомате еще день прибавили. И уехал. Залез в кузов машины, помахал рукой — и навсегда. И только вот этот клочок бумажки.
Счастливая ты была, Хорька! А потом похоронила мать. Одна осталась, одна-одинешенька! Подруги давно замужем, по разным дорогам разбрелись. Сама к зиме без помощников дом обмазывала, окна утепляла. В лес ходила за дровами, или с коляской, или прямо на плечах таскала. И каждый год под окном разливался Хопер, все под той же горой, один год слабее, другой год по самые огороды. Да что ей Хопер! Вода вешняя смывала последние остатки прошлого. Давно нет того бугорка, где с ним в последний раз сидела. Как сейчас помнит, бросил он папироску и к ней нагнулся, а она взяла и поцеловала его. А потом встала и побежала вверх на кручу…
И сосну, что над кручей стояла, — срубили…
Одна Хорька. Грубые мужские руки. Пьяные разговоры. И только там, в душе, теплые, нежные строчки.
И почему судьба у всех такая разная? Цвести бы тебе, Хорька, цвести бы! И ребята курносые, с такой же родинкой на правом плече, что у тебя, бегали бы по твоему никому сейчас не нужному двору.
Одна Хорька. Надломилось что-то в душе, заледенело…
И эти слова тети Аграфены:
«Ну зачем так, Хоря… Детей, значит, спас он, Хорька!» — «Детей спас?»
— Сапер он был, — тихо, не зная кому, сказала Хорька, — Сапер…
И упав плашмя на постель, горько зарыдала… Сквозь нахлынувшие слезы все та же тетя Аграфена видится — стоит, будто каменная, и не уходит… Разве у тебя горе невыплаканное только. И у других тоже. Зачем тогда память осквернять! Ведь ты же хорошая баба, и голова у тебя умная, и руки работящие…
Первые блестки утра пробились в окно. Хорька была уже на ногах. Не проспала Хорька, хоть после вчерашнего вечера и болела душа. Печку не разжигала, перекусила всухомятку. Надела ватник: поутру холодно на дворе и сыро. На свой курятник заторопилась Хорька. Ждет ее там Аграфена, напарница.
41
— Скольких людей ты веры лишишь, снижая вот так Русакова? — Батов обошел письменный стол и сел на диван рядом с Волновым.
— Значит, Русаков, по-твоему, и есть тот самый человек, который стоит на страже колхозного закона?
— Тот самый, — кивнул Батов. — Ты угадал, Петр Степанович. Стоит на страже. Тактом своим, принципиальностью, здравым смыслом. И это одна из Сторон нашей экономической политики. Может быть, самая важная.
— Но что он, Русаков, сделал важного? — глаза Волнова округлились, в них были недоумение, обида.
— Ничего особо важного он не сделал, — сказал Батов. — Самые простые вещи. Внимательно прислушивается к людям.
И председателя, между прочим, приучает прислушиваться к людям. А теперь подумай, Петр Степанович, снимем мы Русакова, а как примут это колхозники? Был, мол, человек, хороший — и не угодил. Потому что, дескать, правды нет, само районное начальство, мол, к этому толкает!.. Ты понял? Чем же, скажут, сегодняшний день у нас отличается от вчерашнего?..
— Так я что, должен, выходит, пересмотреть свои методы работы? Выходит, я не понимаю, чего от нас требует партия? — полез в бутылку Волнов.
Батов улыбнулся.
— Понимать-то все понимаешь, но меня, боюсь, все же не понял. Я хочу тебе выложить все по русаковскому делу. Сложная это штука — наша сельская жизнь. Тут с маху не разберешься, тут ох как много надо учитывать. А между тем люди приглядываются да приглядываются к нам, и не дай бог, если они увидят в нас опять только «нажимщиков».