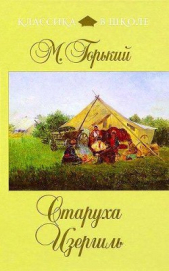Я люблю

Я люблю читать книгу онлайн
Авдеенко Александр Остапович родился 21 августа 1908 года в донецком городе Макеевке, в большой рабочей семье. Когда мальчику было десять лет, семья осталась без отца-кормильца, без крова. С одиннадцати лет беспризорничал. Жил в детдоме.
Сознательную трудовую деятельность начал там, где четверть века проработал отец — на Макеевском металлургическом заводе. Был и шахтером.
В годы первой пятилетки работал в Магнитогорске на горячих путях доменного цеха машинистом паровоза. Там же, в Магнитогорске, в начале тридцатых годов написал роман «Я люблю», получивший широкую известность и высоко оцененный А. М. Горьким на Первом Всесоюзном съезде советских писателей.
В последующие годы написаны и опубликованы романы и повести: «Судьба», «Большая семья», «Дневник моего друга», «Труд», «Над Тиссой», «Горная весна», пьесы, киносценарии, много рассказов и очерков.
В годы Великой Отечественной войны был фронтовым корреспондентом, награжден орденами и медалями.
В настоящее время А. Авдеенко заканчивает работу над новой приключенческой повестью «Дунайские ночи».
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Ржа и чернь, чернь и ржа. Ветер и зной. Коричневые и мышастые тучи, мутное закопченное солнце, люди с понурыми головами, сутулые, ржавые, черные…
И все-таки не проклинаю тебя, земля моего детства, земля моих отцов. Не всегда ты была убогой, горькой, немилосердно жестокой ко мне.
…В праздник Варька взбирается ко мне на печку, жмется пахучими волосами к моей щеке и шепчет:
— Сань, поднимайся, живо, солнце скоро взойдет, опоздаем. Не моясь, выпросив у матери кусок хлеба, торопимся на улицу.
Выбравшись за последние землянки Собачеевки, Варька глубоко вздыхает, смотрит в небо и почему-то смеется. Потом срывает с головы платок и, сверкая пятками, бежит прохладной степью, звонко кричит мне, чтобы я ее догонял. Я закатываю штаны и мчусь за Варькой. Но разве ее догонишь.
Совсем далеко, не добросишь камень, она ложится на черный холмик сусликовой норы и кричит, сложив ладони над губами:
— С-а-ань, Санюшка, скорей, скорее…
Я подбегаю. Она хватает мою руку, вскакивает, и мы бежим. Позади нас трава покорно клонится к земле, трещит прошлогодний бурьян, из-под ног выпорхнул с тревожным свистом крыльев перепел. Варька, спотыкаясь от неожиданности, останавливается. На цыпочках крадется к тому месту, откуда выпорхнул перепел, становится на колени, осторожно раздвигая траву, ищет гнездо.
— Ой! — вскрикнула она. — Сань, голенькие еще, пищат! Посмотри. В ямке, обложенной мягкими стеблями ковыля и седым пухом, поднимая голые хрящеватые перепонки намечающихся крыльев, наваливаясь друг на друга, копошится перепелиный выводок.
— Сань, никогда не трогай птенчиков. А если тронешь, от них мать откажется.
И снова, схватившись за руки, мы бежим, притаптываем высокие травы, и роса холодит наши ноги, хлещет колючка, жжет крапива.
Варька, запыхавшись, останавливается, переводит дух, сладко жмурится:
— У-у-х, Сань! Санька!
Дальше идем шагом. Направляемся к неглубокой, немноговодной Северянке. Она лежит у самого края леса, гладкая, темная, прохладная.
— Окунемся, а?
Варька неторопливо раздевается, аккуратно распинает на ветвях молоденького, человеку по колена, дубочка свое небесное, в алый цветочек платье, бережно расправляет складки. Потом, вскинув руки, крепко перехватывает волосы сатиновой лентой и веселыми жадными глазами смотрит на воду. Ноги Варьки от пяток до колен смуглые, поджаренные, как у цыганки, почти черные. И плечи, и шея, и щеки тоже хорошо пропеченные, желудевого цвета. Родилась смуглянкой, выросла смуглянкой, смуглянкой на всю жизнь останется.
— А-а-а! — оглашенно кричит она и, разбежавшись, ловко прыгает с крутого берега, выбросив руки вперед, вытянув ноги в струнку, головой вниз — и глубоко скрывается под водой.
Успокоилась река, взбаламученная прыжком Варьки, уже опять чертят ее гладкое зеркало крылатые пауки, а сестры нет и нет. Мне страшно, я хочу кричать, но в это время из воды показывается черная голова. Варька фыркает, отдувается, машет мне рукой.
— Са-а-ань, айда сюда! Живо.
Раздеваюсь, бегу к реке, но у самой воды останавливаюсь: темная она, дышит снежной прохладой.
— Иди, Сань, не бойся!
Варька быстро плывет ко мне, сильно работая ногами и перепахивая водную гладь кипящей бороздой. Выходит на травянистую кромку берега. Крупные капли сверкают на ее бедрах, на худом мускулистом животе, на груди, на щеках, на губах. Хватает меня и, заливаясь смехом, тащит волоком в реку. Я плачу, отбиваюсь руками и ногами, а она уговаривает:
— Иди, дурной, иди, спасибо еще скажешь!
И правда, водобоязнь проходит с первым окунанием. Обхватив шею сестры, лежа на ее широкой смуглой спине, я плыву на середину реки и не чувствую ни холода, ни страха.
— Ну, хорошо, дурень?
— Хорошо. Здорово.
Потом, выбравшись на мелководье, мы хохочем, брызгаемся, кувыркаемся на траве. Когда солнце выходит из-за леса, мы затихаем, греемся в его лучах. Варька встряхивает головой, распускает волосы. Мокрые и шелковисто-черные, скользкие, они льются по ее спине, груди, покрывают ее тело чуть ли не до пяток.
— Варь, ты русалка, да?
— Ага. А русалки, знаешь, щекочут купальщиков. — Варька набрасывается на меня, щекочет под мышками. Я смеюсь, визжу.
И Варька тоже визжит и смеется.
Просохнув на солнце, одеваемся, едим хлеб, направляемся в лес. Варька, босая, с расстегнутым на груди платьем, скрывается в лощине и выбегает оттуда с охапкой алых с тугими бутонами воронцов.
— Смотри, Сань, смотри, какие красивые и душистенькие! — хватает меня за шею, пригибает голову к росистым цветам. — Кто их разукрасил? Почему бывают цветы белые и желтые, красные и синие? Вот так и люди: один горбатый, другой красивый, бедный и богатый, счастливый и несчастливый… Почему?
Варька умолкает. Оторвав от воронца лепесток, кладет его на губы, присасывается к нему, хмурит брови.
Я трогаю руку сестры.
— Варь, скажи: а ты счастливая или несчастливая?
Она быстро, рывком, так что просохшие волосы рассыпаются, поднимает голову. Строго, с удивлением смотрит на меня. В ее черно-сизых, как переспелые сливы, глазах вспыхивают колючие смешинки.
— А ты как думаешь?
— Я?.. Счастливая.
— А почему ты так думаешь?
— Потому.
— Нет, ты скажи, — допытывается Варька.
— Знаю, не маленький.
— А ты сразу выкладывай, не мани, зазывальщик этакий. Чем же я счастливая? Одно платье на мне, живу в землянке, работаю от зари до зари на заводе, формовочную землю таскаю, животом надрываюсь… Какое ж тут счастье?
— Слыхал я, как бабы на Собачеевке говорили: родилась Варька красивой, значит будет счастливой.
Сестра рассмеялась, вспугнув стаю диких голубей, угнездившихся на опушке леса.
— А еще чего наши бабы говорили?
— Кралей червонной тебя почему-то называли и песенной девахой.
— Какой?
— Песенной. Хвалили, как ты поешь и танцуешь. И еще говорили…
— Ну, ну, выкладывай, чего осекся?
— …говорили, что ты хорошего себе жениха подцепила… Егора Месяца.
Варька, опять рассмеялась, сильнее прежнего, и вдруг в полный голос, подняв голову к небу, усмехаясь глазами и губами, запела:
А когда она замолчала, я спросил:
— Варь, а это правда… про жениха?
Варька долго не отвечала.
Наверное, все-таки правда. Я во все глаза рассматриваю сестру. Кажется она мне новой: глазищи огромные, щеки жаровые, грудь высокая. Доросла до невесты, доросла.
Варька смело, твердо смотрит на меня, говорит:
— Нет, Саня, кривда это. Никто мне не нужен. Дедушку люблю, тебя, батю, маму, подругу Настеньку, лес, песни, гармошку. — Неожиданно скривилась, закашлялась, прохрипела старческим голосом, подражая деду Никанору: — Така, значит, арихметика!.. — Засмеялась и уже своим, чистым, песенным голосом добавила: — Не нуждаюсь я в Егоре Месяце. Он проходу не дает, все женихается, а я… Смотреть смотри, а руками не трогай — не купишь.
Варька по-собачьи тычется своим прохладным носом в мое лицо, вся трясется от неудержимого смеха. Не пойму я, в самом деле ей не нужен Месяц или так, дурака валяет.
— Жарко тут, на солнцепеке, пойдем в прохладу. — Повернувшись лицом к лесу, Варька огораживает рот ладонями и, приподнявшись на цыпочки, кричит, кого-то зовет к себе:
— А-у-у-у!..
Сырой пахучий лес, насквозь пронизанный солнечными лучами, стонет песнями кукушек, жужжит и гудит пчелами. Вдали и вблизи слышится протяжное, то безнадежно тоскливое, то радостно-озорное: «Ау-у-у!..»
— Ау-ау-аюшки!
Мне хочется, чтоб откликнулся Егор Месяц, чтоб его кудрявая голова, его желтая рубаха, его белое-белое лицо показались в лесном сумраке.
Нет, не показывается.
Солнце встало над вершинами деревьев, светит прямо, как в колодец, его лучи выпили росу на травах. Умолкли истомленные дневной жарой кукушки. А мы с Варькой все бродим по лесным глухим зарослям, пьем воду из криниц, купаемся в прозрачных ручьях, собираем старые желуди, ищем кукушкины гнезда, рвем и рвем цветы. В руках у Варьки уже целый куст разных цветов, из-за них не видно ее головы, а она все жадничает: увидит новый цветок — огненный мак или белую ромашку — бросается к нему.