Метелица
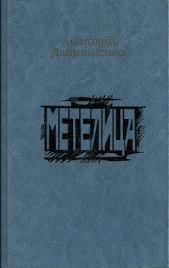
Метелица читать книгу онлайн
Оккупированный гитлеровцами белорусский хутор Метелица, как и тысячи других городов и сел нашей земли, не склонил головы перед врагом, объявил ему нещадную партизанскую войну. Тяжелые испытания выпали на долю тех, кто не мог уйти в партизаны, кто вынужден был остаться под властью захватчиков. О их стойкости, мужестве, вере в победу, о ценностях жизни нашего общества и рассказывает роман волгоградского прозаика А. Данильченко.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
— Ста-роста — комен-да-тура, — пояснил он, с трудом подбирая русские слова.
Гаврилка, застегивая на ходу тулуп, полез в коляску. Левон топтался на крыльце, выпятив нижнюю губу, и злобно глядел на своего начальника.
«Завидует, боров! — подумал Гаврилка. — А чему завидовать?» И вдруг его охватил беспричинный страх. Не первый раз вызывают Гаврилку в Липовку, и каждый раз он гордился, садясь в уютную коляску: как-никак сам комендант присылает за ним мотоциклиста. А сегодня, то ли что-то неладное почуяв, то ли от неожиданного вопроса «а чему завидовать?», он заволновался. Опять — поборы или еще что? Поборы — не беда, Левону только мигни, он из сельчан душу вытряхнет, не случилось бы чего позаковыристей. О том, что на девяносто восемь дворов в Метелице осталось всего семь коров, он не беспокоился: заведут новых, лишь бы войну прикончить. Гаврилка и свою захудалую коровенку сдал на мясо — глядите, люди добрые, староста, как все, страдает от немецких властей. Болтаясь в коляске, всю дорогу до Липовки он успокаивал себя: «Чегой-то я! Тю, дурень! В деревне — тишина, партизанами и не пахнет, что требовали — исправно отдали, чего еще?» Но в сердце скребло, не давало покоя.
Комендант встретил Гаврилку, как всегда, спокойно и строго.
— Как жив, староста? — спросил Штубе на ломаном русском и откинулся на спинку стула, скрестив руки на груди.
— Спасибочки, герр паночек, добре. Гут, герр паночек! — отчеканил скороговоркой Гаврилка и застыл в почтительной позе, ожидая появления улыбки на губах коменданта. Слова «герр паночек» всегда вызывали улыбку у Штубе, Гаврилка заприметил это и старался повторять их как можно чаще. Но сегодня комендант не улыбнулся, а поглядел презрительно, и в мозгу Гаврилки тут же мелькнуло: «Чуяло сердце, что-то не то».
— А партизан как жив? — теперь Штубе улыбнулся.
— К-какие партизаны? — растерялся Гаврилка. — Не знаю… У нас их и близко не водится.
Комендант измерил его взглядом с ног до головы, достал сигару из красивой, с золотистыми узорами коробки, не спеша отрезал маленькими ножницами кончик над знакомой Гаврилке серебряной пепельницей и закурил. В углу, рядом с переводчиком, сидел Матвей Гришаев, прямой начальник Гаврилки, староста всей округи. Худощавый лейтенант Курт стоял на своем излюбленном месте, у окна, и сверлил Гаврилку веселым, нетерпеливым взглядом. Гаврилка перехватил взгляд Курта и затрясся от страха — так лейтенант всегда глядел на свою жертву.
— Не водится… — сказал Штубе и двумя пальцами сделал знак солдату у двери.
Через минуту в комнату ввели младшую дочку Гаврилки Любку.
— Кто это? — спросил Штубе.
Гаврилка не смог выдавить из себя ни слова, только глядел на Любу как завороженный, часто глотая воздух. Дочку он не видел с августа сорок первого. За полтора года Любка сильно переменилась: лицо вытянулось, повзрослело, на лбу перевернутым вниз коромыслом легла тонкая морщина, подбородок стал угловатым, как у мужика, узкие полоски черных бровей взметнулись кверху еще сильней, увеличив и без того большие надбровки, глаза потемнели, сделались сухими и колючими, девичье угловатое тело округлилось по-бабьи полновесно и упруго. Она стояла посередине комнаты, уставясь неподвижными глазами куда-то мимо плеча Гаврилки, и одной рукой придерживала серую вязаную жакетку вместе с кофточкой на груди. Пуговицы на жакетке и кофточке были оторваны. Под глазами у Любы — синяки, губы стиснуты добела.
«Изнасильничал, — подумал Гаврилка, — фашист проклятый!» Он знал, что Курт, если ему в руки попадалась молодая баба, сперва насиловал, потом пытал, избивая до полусмерти, потом вешал. В таких случаях он говорил: «Я познаю человека от сладкого до горького». Эту фразу Гаврилка услышал от переводчика и посмеялся, а теперь, глядя на дочку, вспомнил со злом.
«Изнасильничал, кровопийца!» В нем настойчиво зашевелилось отцовское чувство. Надругались над дочкой, сейчас будут пытать, а завтра повесят. Непослушная, своенравная Любка, но и самая ласковая из дочерей, завтра будет расстреляна или повешена на липовской площади. Гаврилка живо представил картину казни и скривился от боли в сердце, от злости к Штубе и его помощнику Курту, от своего бессилия чем-нибудь помочь дочке.
«Повесят, ироды! — подумал он. — А меня?»
— Кто это? — повторил комендант.
— Н-не знаю… — пролепетал Гаврилка, мгновенно сообразив, что лучше не признаваться, авось не знают.
От сухого угрожающего вопроса коменданта его опять охватил страх за свою участь, и уже новое чувство пробуждалось к Любе — чувство недовольства, переходящее в слепую злость. Из-за нее могут порешить и Гаврилку. Значит, все, добытое хитростью, лестью, изворотливостью, пойдет прахом? Из-за нее, непутевой девки, отбившейся от семьи, нацепившей комсомольский значок, выскочки сопливой! Все дети как дети, а эта губит своего батьку, рушит добытое под старость спокойствие и благополучие семейства. И все-таки она — родная дочка, самая младшая из четырех дочек Гаврилки, самая толковая и заботливая.
— Ты что брешешь, гад! Ты что брешешь, так твою перетак!.. — зарычал Матвей Гришаев и вскочил с табуретки с красными, злыми глазами. Видать, он опознал Любу и теперь чувствовал ответственность.
Штубе удивленно вздернул брови, уставясь на Гришаева, потом метнул взгляд на переводчика. Тот понимающе кивнул и сказал:
— Герр капитан недоволен вашим поведением, господин староста. Он просит вас выйти.
— Извиняйте, извиняйте, герр капитан! — спохватился Гришаев, меняясь в лице. — Брешет он. Это его дочка! — Он неуклюже поклонился и вышел.
— Говори, Павленко, ты имел связь с партизанами? Это твой дочь? — спросил Штубе, выпуская дым из угла губ и стряхивая пепел с кончика сигары.
— Герр паночек, упаси бог! Никакой связи… Я ж верой и правдой служил вам. Любки я и глазом не видел, пропала она, как только красные отступили. Истинный бог, герр паночек! — лепетал Гаврилка, часто крестясь и отвешивая поклоны.
Лихорадочный страх вышиб из сердца остатки жалости к дочке, единственная мысль пойманной куропаткой билась в мозгу: спасти себя.
— Это рази дочка? Батьку родного в петлю тянет. Господи упаси от таких детей!
— Ты! — Штубе ткнул пальцем в сторону Любы. — Говори.
Люба внимательно поглядела на Гаврилку, на минутку то ли жалость, то ли досада перекосила ее лицо, и щеки передернулись судорогой.
— Фашистский прислужник мне не отец! — сказала сухо — то ли всерьез, то ли спасая отца. — Таких мы на осинах вешаем!
Гаврилка заметил улыбку на лице коменданта и заторопился:
— Бачите, бачите, герр паночек, рази это дочка? Батьку — на осине…
— Вешаете на осин… — проговорил Штубе задумчиво и опять улыбнулся. — Ты, Павленко, завтра будешь вешать свой дочь! — Он сладко затянулся сигарой и весело поглядел на Курта.
Такого оборота дела Гаврилка не ожидал. Сразу и не поверил своим ушам, не мог понять смысла комендантских слов. А когда до него наконец дошло, что придется казнить свою дочку, он весь затрясся, в груди захолонуло, ноги подкосились, и Гаврилка плюхнулся на колени, молитвенно сложив руки на груди.
— Паночек, ослобоните! Дочка ить, не могу… Ради христа, паночек!
— Можешь!
— Не могу, ослобоните! За батьку родного почитать буду, бога молить стану. О-сло-бо-ните!.. — простонал он и залился слезами.
— Можешь! — повторил спокойно Штубе и махнул рукой.
Двое солдат подхватили Гаврилку, проволокли через коридор и кинули в подвал.
Тяжелую бессонную ночь провел Гаврилка в подвале. Сперва он решил, что на дочку руки не поднимет.
Вечером начали пытать Любу в этом же подвале, за тонкой кирпичной стенкой. Он слышал одиночные резкие, как выстрелы, вскрики, потом долгий нечеловеческий вопль, переходящий в хрипоту, глохнущий обессиленно, и скручивался в комок от жалости к дочке, прижимался к земляному полу, будто хотел в него врыться по-кротиному, не слышать Любиного голоса.
«Ироды! — шептал он. — Душегубы! Что они с ней делают? — Потом не выдержал, вскочил на ноги и принялся колотить в стенку кулаками: — Скажи им, што они хочуть! Скажи, дура!»

























