Трудный переход
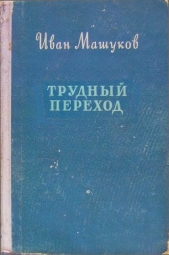
Трудный переход читать книгу онлайн
В феврале после больших морозов, державшихся долго, вдруг ударила оттепель. Есть в природе сибирской предвесенней поры какая-то неуравновешенность: то солнце растопит снег и по дороге побегут ручейки, растекутся лужи и застынут к вечеру тонкими, хрупкими зеркальцами, то неожиданно задует метель, стужа снова скуёт землю, и вчера ещё мягко поблёскивавшая целина сугробов сегодня станет жёсткой, и ветер понесёт с неё колючую белую пыль
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
— Ну, а теперь, значит, доведётся!
— Поехали, чего там!
— Начинать надо! — послышались нетерпеливые голоса.
Артельщики заезжали на кармановское поле. В трёх местах у Долгого оврага разбросались пашни Селивёрста и Карпа Кармановых. Эти пашни давно и хорошо были известны каждому крутихинцу. Там, где сейчас остановились артельщики, у самых столбов было большое поле, на котором Селиверст на небольшом куске сеял пшеницу «только для себя». Другой клин отводился под рожь и ячмень. А земля в третьем месте — почти у самого Долгого оврага, на лесной опушке — оставалась в залежи. Когда-то на этой земле у Кармановых сеялась также пшеница, сейчас пашня зарастала — «отдыхала» уже много лет.
Были предложения взять для артели землю, что полегче, поближе. Но Григорий воспротивился — именно эту предложил он.
— А сможем мы сразу-то? — усомнился Ларион. — Паровую-то землю легко. А залежь? Всё ж таки силёнок у нас покуда мало..
— Вспашем, — уверенно ответил Григорий. — Кармановскую залежь в первую очередь!
Сапожкову хотелось, чтобы ни одного кармановского поля не оставалось не поднятым в первые же дни пахоты. «Пускай все видят, что Кармановы больше не вернутся», — думал Григорий. И Селезнёв поддержал его. Тимофей знал, как волновало крутихинцев — не ущемит ли их артель. И ему очень не хотелось обижать тех, кто ещё не вступил в неё. Хотя Григорий говорил насмешливо: «А стоило бы их прижать». Сейчас Григорий дал знак своему пристяжнику — парнишке вдовы Алексеевой, который, покрикивая на рослого, сильного коня, вёз в телеге железный плуг, баклагу с водой и мешок с провизией; вторая лошадь, запряжённая в передки плуга, шла сзади, привязанная к телеге. А на третьей — верхом был Григорий.
Парнишка дёрнул вожжами.
— Поезжай за мной, — сказал ему Григорий.
На коне он выехал вперёд, за ним через пашню двинулась телега. Артельщики, стоя на меже, смотрели им вслед. «Упрямый Григорий, добился своего», — было в их взглядах. Подошёл с озабоченным лицом Ларион Веретенников; ему надо было каждому дать работу.
— Дядя Савватей, заезжай сюда, — распорядился Ларион.
— Ну, благословясь, — сказал Савватей и направил телегу на межу кармановской пашни.
— И ты, Ефим, с ним! — кивнул Полозкову Ларион.
Ефим охотно повиновался.
Вдвоём с Савватеем Полозков пахал длинное кармановское поле. Савватей вёл запашку со стороны степи, а Ефим у леса. Земля была здесь мягкая, легко поднималась плугом. Две лошади свободно тянули его. Ефим даже один раз снял руки с чапиг и шёл по борозде, не притрагиваясь к плугу. Идти так и смотреть, как ровно, точно нарезанные, отваливаются жирные, чёрные пласты земли, было истинным наслаждением. «Эх, вот пахота-то! — думал Ефим. — Может, это я бати моего землю пашу? Землю дедушки Никифора? Нет, наша полозковская пашня вроде была подале»… Мысли у Ефима были светлые, какие-то свободные, летучие. Он не заметил, как подошёл к концу первый день пахоты, и только по лёгкой ломоте в руках и свинцовой тяжести в ногах понял, что очень устал. Но и на другой день он пахал с той же поднимающей дух лёгкостью и ощущением счастья в душе…
На паровом клине, где Селиверст Карманов ещё в прошлом году сеял рожь и ячмень, земля была похуже, но тоже достаточно мягкая, чтобы пахать её на двух лошадях. Зато старую залежь поднимать было трудно. Григорий это сразу увидел, когда подъехал к заброшенной пашне. За несколько лет она сильно затравела. Правда, края меж и большая борозда посередине её были заметны, однако пырей в некоторых местах разросся сильно. Но Григория это не остановило. Он велел парнишке-пристяжнику слезать с телеги, распрягать лошадей, а сам прошёл из конца в конец всё поле. На глаз тут было десятин сорок. Григорий огляделся. Близко подходил лес. Вдоль поля с правой стороны большие деревья темнели ободранными стволами. Григорий выругался. Он понял, что Кармановы делали это, готовя заранее корчёвку леса. «Целину метили прихватить. Сколько лесу погубили… Вот жадность!»
Григорий вернулся к лошадям, уже запряжённым в плуг. Пристяжник на гусевом коне взмахнул плёткой, постромки натянулись… Григорий крикнул на коней, подхватил правой рукой плуг, придержал левой. Острый лемех вошёл в твёрдую землю, чёрный пласт — плотный, словно весь прошитый корнями трав, поднялся, встал на ребро, перевернулся вниз дерниной…
— Но-но! — крикнул Григорий.
Кони рванули плуг так, что пахарь его едва удержал, и пошли бодрее.
Он пахал самозабвенно, с радостным чувством, что делает большее, хорошее дело — не для своей корысти, а для общества. И с каждой новой бороздой всё больше уверялся: «А ведь я пахарь, настоящий пахарь. И в этом смысл моей жизни».
Платона Волкова не радовала нынешняя весна. В поле собирался он точно поневоле. Ещё в прошлом году Платон был исполнен надежд, с увлечением занимался опытничеством. А нынче он лишь похвалился, что превратит пашню в огород — будет-де выращивать на пахотной земле рассаду, картофель и овощи. Для Крутихи это было неслыханно — чтобы пашня, которая испокон веков засевалась зерном и колосилась хлебом, вдруг засинела от края до края кочнами капусты или зазеленела картофельной ботвой. Этим новшеством он рассчитывал удерживать за собой славу «культурного хозяина» — как защиту от возможных посягательств на его хозяйство. А хлеб он не хотел сеять из ненависти — «чтобы не давать большевикам».
Но оказалось, что большевики обходятся и без него. Артель ведёт запашку кармановских полей. Смотреть на это равнодушно Платон не мог. Вид чёрных полос земли, вспаханных не Кармановыми, и ему был предупреждением. Что же теперь с такими хозяевами, как он? В артель его не примут и в покое не оставят. «И дом мой им понадобится и скот мой, а я — нет», — думает Платон, перед глазами которого встаёт оживлённая суета во дворе Кармановых, отданном артельщикам.
Злоба подкатывает к сердцу, но он понимает, как он одинок и бессилен. И тогда ему вспоминается Селиверст Карманов с его ожесточённой яростью и призывом к действию. Но где он теперь? Может быть, в чужой земле гниют его кости… Нет, не остановить движения жизни… Летит время, и всё меняется, но не к лучшему для таких как они, а к худшему.
— «Вы думаете, время идёт, безумцы, это вы проходите», — шепчет он слова из «священного писания».
Пашет Платон и оглядывает своё поле. Вот в самой середине его растёт берёза. Каждый год её приходится опахивать. Эта берёза словно зашла сюда из леса. А вот у межи лежит большой плоский камень. Что видел он? Может быть, ещё прадед Платона присаживался на него, спустив между коленями тяжело натруженные руки? Но у Платона более близкие воспоминания. Платон помнит, как он приезжал сюда летом — молодой, весёлый, щеголеватый; тогда он ухаживал за учительницей. Никандр посылал его посмотреть, не бездельничают ли батраки. Завидев его ещё издали, Никула Третьяков — он и молодой был всё такой же угодливый — кричал хозяину: «Платон Васильич! Как здоровьице?» И бежал, бежал, пыля ногами, через всё поле к нему навстречу…
А теперь вот у этого же Никулы пришлось просить мальчишку в пристяжники. Свои дети у Платона ещё малые, он поздно женился. «А что было бы, если бы я взял тогда учительницу? Могла быть другая жизнь». Эта мысль лишь на мгновение посещает Платона, он машет рукой: «Пустое!»
Платон пашет на трёх лошадях, хотя земля такая, что можно было бы пахать на двух. Платон бережёт свои силы: тройка легче тянет плуг, пахарю не приходится напрягаться, чтобы иногда помогать лошадям. Всё же к вечеру Платон устаёт. Да к тому же его раздражает Никулин парнишка. Он высказывает самостоятельные суждения, а Платону это не нравится. «Ребятишек и тех испортили большевики», — сердито думает Платон, наблюдая, как пристяжник в балагане за чаем уверенно лезет ложкой в туесок со сметаной. «И не просит, подлец. Как в свой…» Потом парнишка забивается в угол и спит, как убитый, а Платон всё раздумывает. Он сидит у огня, размышляя о том, что хорошо будет, если Веретенников купит у него коня. Надо потихоньку начинать распродажу, но так, чтобы не дознались… Успокоенный собственными мыслями, он малость задремал, когда ему послышалось, будто кто-то подошёл к балагану. Платон поднял голову и вскочил. Перед ним был Селиверст Карманов. «Что за пропасть? — ахнул Платон. — Ведь Селиверст же осуждён и, говорили, расстрелян? Уж не почудилось ли?» Но была луна, она хорошо освещала нежданного гостя. Да вот он и заговорил. Всё было явственно.


























