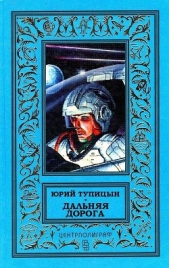Избранное. Повести. Рассказы. Когда не пишется. Эссе.
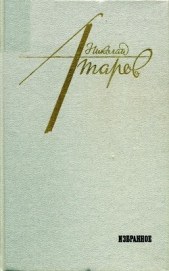
Избранное. Повести. Рассказы. Когда не пишется. Эссе. читать книгу онлайн
Однотомник избранных произведений известного советского писателя Николая Сергеевича Атарова (1907—1978) представлен лучшими произведениями, написанными им за долгие годы литературной деятельности, — повестями «А я люблю лошадь» и «Повесть о первой любви», рассказами «Начальник малых рек», «Араукария», «Жар-птица», «Погремушка». В книгу включен также цикл рассказов о войне («Неоконченная симфония») и впервые публикуемое автобиографическое эссе «Когда не пишется».
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
— А ты сам реши, — глядя из-под очков на полуголого Митю, ответила Марья Сергеевна.
Митя швырнул в угол мокрые ботинки, которые нес, держа за шнурки, развесил на спинках стульев мокрую куртку и рубашку, отжал ладонями волосы, бросил на отца испытующий взгляд и шумно вздохнул. Земля, видно, бежала еще у него под ногами; наследив мокрыми ступнями по всей комнате, он прыгнул на приготовленное отцовское ложе. Егор Петрович движением плеча показал на сердитую тетку, и Митя тотчас сорвался с тахты и кинулся в кухню. Через мгновение он снова показался в комнате и, упершись руками в косяки двери, сказал отцу:
— Мне нужно поговорить с тобой.
Еще минута — и Митя посреди тетиной комнаты, на виду у отца, мыл ноги в тазу. Марья Сергеевна ходила с тряпкой по его следам.
— Ты не грызи его, пожалуйста, — попросил Егор Петрович. — И вообще дай-ка нам, мужчинам, поговорить. А то начнешь ему сейчас про Олега Кошевого доказывать.
Он всегда подтрунивал над несоразмерностью ее примеров с поводами, которые их вызывали.
— А ты сам говори! — сказала Марья Сергеевна и неторопливо удалилась.
Но прежде чем совсем отстраниться от предстоящего разговора, она еще раз показалась за Митиной спиной, когда он босиком вошел в комнату. В руке Марьи Сергеевны была варежка, найденная ею утром под Митиной подушкой.
— Откуда у тебя под подушкой? — спросила она, хорошо зная, чья это варежка.
— Это Олина варежка. Там у них зимние вещи были.
Он быстро взял варежку из тетиных рук и прыгнул на тахту. Поглядев на Егора Петровича и на Митю, Марья Сергеевна постояла и вышла, дверь за собой, однако, не затворив.
— Называется поговорили! — заключил отец.
Печально взглянул Митя на Егора Петровича.
— Про Олега-то Кошевого я все понимаю. А вот что самому сейчас делать…
— Значит, слышал наш разговор? — установил прокурор, — Ты бы поужинал, вот что надо самому сейчас делать. Потом тетю тревожить будешь.
— Сейчас!
Митя соскочил с тахты и пошел на кухню искать пропитание.
В его поведении столько было неопытности чувства и столько доверчивости, что Егор Петрович заново ощущал свое отцовство. Вот это и есть семья: здесь каждый отпечаток Митиных ног на полу что-то значит. И ведь это не ребяческие годы сына, это его юность…
«Папа медлит, это хорошо…» — думал Митя и с полным расчетом давал ему нужное время: тщательно выскоблил со сковородки холодную кашу, запил киселем и снова сел перед отцом на тахте. Дверь закрыта, и разговор все равно состоится.
— Значит, про Олега Кошевого ты все понимаешь? — спросил Егор Петрович и добавил: — Убери-ка варежку.
Быстрота, с которой Митина рука сунула варежку глубоко под подушку, стоила многих выразительных слов. Да, но под отцовскую подушку на тахте! В первый раз Митя по-ребячески улыбнулся, с вызовом поглядел на отца.
— Выспаться тебе надо за две ночи, — сказал Егор Петрович. — Что, Оля не согласилась? — спросил он внезапно.
— Что — не согласилась?
— Переехать к нам на квартиру.
— Откуда ты знаешь?
— Ты объясни, почему не согласилась.
— Нет, ты скажи: откуда знаешь?
— Да просто догадался, о чем вы могли говорить весь вечер.
— Оля отказалась наотрез, и убедить невозможно, — признался Митя. — В общем, у меня все вышло глупо, нескладно. А она твердит одно: «Не хочу, чтобы меня жалели…» — Митя поднял голову: — Хочешь, пойдем вместе? Дождь перестал.
— Нет, сейчас не стоит. Тем более что до Дикого поселка, кажется, километров десять. Так что вернемся как раз на рассвете. Оля хорошо учится?
— Учится… ни плохо, ни хорошо.
— Посредственно, — заключил прокурор.
Они помолчали.
— Ты помнишь маму, Митя?
— Иногда кажется, что помню.
— Она так любила думать, какой ты будешь большой.
Разговор шел совсем не так, как предполагал Митя. Что это — предостережение, напоминание?
— Папа, если ты согласен, чтобы Оля жила у нас, мы вместе должны ее уговорить.
— Что ж, и уговорим. Это тетя Маша в школе сделает. Так лучше, чтобы Оля не думала всякие там глупости, что в тягость или из жалости. Не в этом сейчас дело.
— Папа, ты просто представить не можешь ее состояние! — крикнул Митя, мгновенно вскочив на ноги. — Все это гораздо хуже, чем можно подумать! У нее нет подруг — там слили два девятых, и такая пошла муть, поделились на «наших» и «ваших», кто-то переметнулся. Но ведь этого мало: у Оли нет ни одного взрослого человека, который бы ей по-настоящему помог. Нянька растерялась. Ее племянница собирается Олю устроить летом в пивной ларек. А Ольгу все время озноб трясет. А сама злится, что ее жалеют.
Как мог он рассказать отцу про то, как он думал всю дорогу, что она может одичать, как, шагая под дождем, мучился и не мог решить, прав он был или не прав, подчинившись Ольге, испугавшись ее слабости.
— Взять Олю нужно. Иначе что же выходит: Митя Бородин — только рыцарь бедный? — сказал отец. — Верно, тетя Маша?
— Как же, как же, — послышалось немного невпопад из-за двери, что означало не только, что тетя слышала разговор, но и что в основном согласна с принимаемыми решениями.
— Правда, тетя Маша считает, что не все думают по-нашему, люди часто бывают подозрительны. Кривотолки могут получиться, смешки, шепотки. Но мы этого не допустим.
— Этого не будет. Этого не может быть! Ведь мы же летом уедем в лагерь. А главное — я совсем уеду осенью, совсем. Мне ведь здесь долго не жить! А Оле еще год учиться, в десятом. Зачем же тете быть одной? Им даже лучше быть вместе. Главное-то ведь — я уеду!
Так, заглядывая в глаза отцу, убеждая и спрашивая в одно и то же время, говорил Митя. Этот довод, что скоро он уедет, казался ему неотразимым, но на самом деле он лишь выдавал страх Мити перед тем, что главным препятствием для Олиного благополучия сейчас является именно его, Митино, присутствие в квартире.
Митя подошел к отцу.
— Ее нельзя оставлять одну. Я должен помочь. Ты пойми, мы дружим скоро два года. Ты же понимаешь, что такое настоящая дружба.
— Дружба, — повторил Егор Петрович. — Да, кстати. Пусть тетя не слышит, что я тебе скажу… — Он притворил дверь. — Ты-то понимаешь, что с тобой?
Митя молча кивнул головой.
Егор Петрович уселся на угол Митиного стола, нашарил рукой в Митином ящике коробку с табаком, которую всегда, приезжая в город, держал в этом неподходящем месте, среди тетрадей.
— Знаешь, что я тебе скажу? В феврале был я в городе, зашел на ваш стадион. Ты обучал Олю метать диск. Ты даже не замечал, что еще никакой травы нет, а кричал: «Опять траву косишь!»
— Я знаю, что ты заходил. Ты писал тете.
— Она дала тебе читать? Вот думаю о вас и вспоминаю этот унылый стадион и твой сердитый возглас. Очень мне понравилось, какие у вас отношения! Делом вы занимались! И дальше так же продолжайте. Косите траву, вот это занятие!
— Ты все-таки не разобрался, папа, — поправил Митя. — Это плохо. «Косить траву» — значит: диск низко летит.
— Нет, хорошо! Ты меня не учи! Это, может быть, плохо для вашего дискометания, а вообще очень хорошо. Превосходно! — Егор Петрович не искал слов. Как человек целомудренный, он чувствовал, что это не тот разговор, который может повториться второй раз в жизни, и он торопился высказаться и не искал слов. — Приеду, буду с тебя за нее взыскивать, так и знай. «Опять траву косит? Чтоб этого больше не было!» Это уже в смысле дискометания, понятно?
По улыбке сына чувствуя, что запутался, Егор Петрович неторопливо, по всем правилам, снарядил трубку и закурил. Запутался в словах, а не в мыслях.
— Я тебя знаю, — продолжал он, — ты не зубрила, не тихоня, не карьерист, не собственник. Ты мечтатель! Вот. А она…
— Наперсток? — подсказал Митя, желая шуткой предупредить какую-нибудь нелестную характеристику.
— Вот. Точка.
В наступившем молчании слышно было, как за дверью подметает Марья Сергеевна, — это ее последнее, перед сном, ежевечернее занятие.