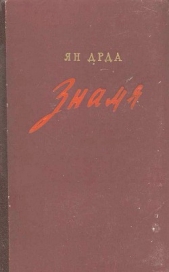Недометанный стог (рассказы и повести)

Недометанный стог (рассказы и повести) читать книгу онлайн
В книгу вошли лучшие произведения новгородского писателя Леонида Воробьева, прожившего недолгую жизнь. Его герои — люди самых различных профессий. Но истинную красоту и поэзию автор видит в делах простых тружеников, чья жизнь неразрывно связана с родной землей, окружающей их природой.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
И эта гадалка наказала ждать, хорошо сходилось про Арсеню. Верно, немало случаев было: не писали, не писали, да вдруг объявлялись. Только он-то больно уж долго не писал.
Раздумалась Татьяна. Скольких гадалок обошла, сколько слез выронила, у скольких сейчас радость в семье — вернулись. И уже начала тихонько подвывать, как вдруг резко дернулась подвода в сторону и остановилась.
Ведь почти шагом ехал обоз, чуть-чуть притрушивал на скатах, а надо же такому несчастью случиться… Света невзвидела Татьяна, когда разглядела, как валится на искорками блестящий снег кобыла, запрокидывая голову и надрывно храпя…
Время было слишком суровое. Как ни доказывала Татьяна, как ни поддерживали ее бабы, вынесли решение: от небрежного обращения пала лошадь. И постановили взыскать убытки.
Деньги, какие имелись, она припрятала: описывайте имущество, что наберете.
Часть набрали. Ничего ей из барахла не жалко было, наживется. Но когда взяли выходной Арсенин костюм и кепку-восьмиклинку, окаменело разом ее сердце.
«Лучше деньги и все надо было подать, — думала. — Как же я костюм у надежных людей не схоронила?»
И сразу ей стало понятно — не вернется Арсеня. Вроде бы знамение ей такое вышло — костюм отдала. Пока тут, на месте, костюм был, вроде не верилось даже, что не придет. Должен прийти, надеть. Цело гнездо, и птица к нему летит. А кто же в разоренное гнездо возвращается?
Будто последняя ниточка надежды порвалась в ней. Не помнила себя, пошла в холодный прируб, где продукты да разные вещи хранили, выбрала подходящую веревку и полезла привязывать к крюку, на который свиные туши вешали.
Приладила веревку крепко. Не услышала, как дверь в прируб скрипнула. Только донесся до нее дочкин вопрос:
— Мам, или Ваську резать будем?
Не сразу поняла Татьяна, что о поросенке дочка спрашивает. Глянула одичало на нее, опомнилась вдруг, что она у нее есть.
Увидела на дочкином лице удивленные и грустные, но все же озорные, все ж Арсенины глаза, хлопнулась с ящика, на котором стояла, ничком на пол. Закаталась, заголосила, насмерть перепугав дочку.
Всего дня через три после этого прибежала под вечер с другого конца деревни доярка Галька, простоволосая, растрепанная, с письмом в руках. Не могла от быстрого бега слова сказать, сунула Татьяне письмо — читай.
Разобрала Татьяна в письме: Галькин муж встретил в Сталинграде Арсеню. Тот сейчас работает пока на восстановлении города, домой не пускают. Арсеня вроде бы домой писал, но ответа не имеет.
Еще Галькин муж намеком добавлял, что ходит к Арсене какая-то баба, варит, стирает. А поэтому не худо приехать Татьяне в Сталинград.
Как в тумане, как в чаду собиралась Татьяна. Едва помнит, как письмо Галькиному мужу писали, чтоб Арсеню предупредил, как дом заколачивала, как до станции добирались.
Попришла в себя уже на пароходе. Смотрела с дочкой на большую реку, на города по берегам испуганно. Сторонились бойких баб и мужиков. Дальше станции нигде за жизнь не была Татьяна, а дочка — дальше своего сельсовета.
А совсем очнулась в большом городе, когда увидела наконец Арсеню, исхудавшего и от этого ставшего еще длиннее. Не бежала к нему, не падала на грудь, а остановилась, как очумелая. И ноги подкосились, дальше не понесли.
В голове только одно было, что есть же на свете правда и что очень правильно все предсказала, не обманула гадалка.
Хлопают цветы таволги Арсеню по ногам, качается перед Татьяной его спина. Недалеко уже покос, и работы там сегодня немного, но все труднее идти Татьяне. Сегодня особенно трудно.
То в жар кинет, то в холод. То за сердце словно кто рукой возьмется — сожмет. Знает Татьяна — худо ей, — но идет она и надеется: «Ничего, чай, не помру».
Так вот по жизни ее вела надежда в любую, самую горькую минуту: «Ничего, у людей и горше бывает… Перетерплю». Каждый вечер засыпала с надеждой: «Вот попройдет это время, потом полегче будет».
Это потому, что жизнь она принимала такой, какая есть, и любила ее такую, хоть и тяжкую порой. Равнялась не на то, что лучше, а говорила: «Какое, поглядишь, у людей горе, у нас-то все вроде слава богу».
И не то чтобы не роптала она: и ревела, и причитала, и ругалась. Однако опять-таки твердо знала, что и без плача жизнь не проживешь, и без ругани. Это в могиле всем спокойно.
А как бы ей жить, если б не надежда, да не мечты, да не любовь? В бога она не верила, то есть икону одну для порядка держала и подумывала иногда: «Может, кто-то там и есть?» Однако была она сама по себе, а бог как-то сам по себе. Иногда и перекреститься можно было, чтоб не обиделись там, будто налог заплатить и квитанцию получить. А в земные дела она бога не мешала, слишком прямо на жизнь смотрела, не мудрствовала. Некогда было: бока у нее всегда болели от работы.
Глядит Татьяна в Арсенину спину и думает, что сильно он изменился за годы разлуки и за последние годы. И дело не в том, что внешне, а стал точно бы тот, а и не тот.
Он из города ехать не хотел. Она его уломала, но в деревне он сразу дом продавать начал.
— Уедем на лесопункт, — сказал.
Шибко ей хотелось остаться в деревне. Чудилось ей, что словно первый их год тогда вернется. Спорили они, и она выкрикнула:
— Знаю ведь я! По-старому в начальниках ходить хочешь. А не выходит. Молодых, грамотных наросло.
Может, и попала в больную точку. Арсеня насупился, ответил:
— Хоть и так. Да я от работы не бегаю, а куда хочу, туда поеду. Всего уж мне хватило.
Он вообще теперь часто вспоминал вслух прошлое. Но только пьяный. Трезвый стал еще молчаливее, хотя и прежде был не болтлив.
А пьяный, да если случался собеседник, становился разговорчивым. Про войну говорил. Ужасая Татьяну, пускался в высокие материи и даже о политике рассуждал, чего раньше за ним не водилось.
Но в политике был не силен, и более поднаторевшие в этих делах и читавшие газеты собеседники его уличали.
Не густо у Арсени было собеседников, но они были помоложе и, видимо, знали больше.
На стене, где отсчитывали время ходики, расположились фотографии дочки с зятем, а в углу, на стыке с другой стеной, поместила Татьяна икону, неизвестно почему, Николая-угодника, помощника и заступника моряков и рыбаков.
Сильно любил Арсеня дочку, больше, чем раньше. Это радовало Татьяну. Но сердилась она, что балует он ее, часто шлет деньги. Дочка выучилась и жила в городе, зарабатывали они с мужем хорошо, и можно бы обойтись без отцовских подарков. Однако Арсеня на упреки Татьяны отвечал одинаково:
— Полно, матка. Это нам всю жизнь ломить, а они уж пускай покрасуются.
И ломил. В сплавной считался хорошим работником. Безотказно шел, куда пошлют, тянулся за молодыми. Хвалили его. Дома тоже без дела не сидел, хозяйство вел, не отступался от огорода и скотины, хотя и тяжело стало.
Татьяна, как могла, за ним тянулась. Когда чувствовала себя ничего, даже на подсобные работы на лесопункт ходила. Но в последнее время сильно сдавать начала и еле-еле дома управлялась.
Вот и поляна. Была она вытянутой, с бугром посредине, возникшей, как многие поляны в лесу, совсем по неизвестной причине. Окружило ее разнолесье, около одного из концов стояла старая ель, поблизости от нее заметан вокруг стожара стог, частично прикрытый сверху куском брезента.
Здесь было уже душно, и Татьяна спустилась в маленькую лощинку за поляной, где не то речка, не то цепочка связанных друг с другом болотцев находилась среди осоки. Она умыла лицо и попила из горстей, а потом села в тень и часто дышала. Постукивало в висках и вроде мутило немного, пот выступал. Она решила отдохнуть.
Арсеня поставил мерина в тень, полез на стог. Скинул брезент, стащил затем сено сверху и начал растрясывать вокруг стога.
Солнце вставало выше, и птицы умолкали до предвечернего, не такого знойного часа. Только кузнечики рассыпались из-под ног, потрескивая и пружинисто падая в сухую щетку срезанных чуть не вплотную к земле стеблей.
Молчали деревья, даже осины не трепетали. Только мерин изредка переступал. Терпко и сладко несло от нагретого сена. Взятое в охапку, оно чувствительно, но приятно щекотало и покалывало руки.