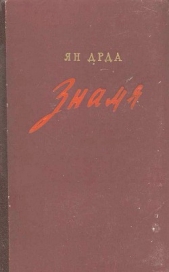Недометанный стог (рассказы и повести)

Недометанный стог (рассказы и повести) читать книгу онлайн
В книгу вошли лучшие произведения новгородского писателя Леонида Воробьева, прожившего недолгую жизнь. Его герои — люди самых различных профессий. Но истинную красоту и поэзию автор видит в делах простых тружеников, чья жизнь неразрывно связана с родной землей, окружающей их природой.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Леонид Воробьев
НЕДОМЕТАННЫЙ СТОГ
Рассказы и повести

Деревянные винтовки
Сначала мы невзлюбили его. Первые уроки военного дела за неимением преподавателя вела у нас пионервожатая. Очевидно, и программ-то еще не было, а поэтому мы занимались играми да физкультурой. Играли в «красные и белые», отнимали «вражеское» знамя. Но все это было веселым развлечением. А пришел он и все поставил на взрослую, деловую основу.
Со стыдом должен признаться, что так и не запомнил полного его имени-отчества. А вот прозвище запомнил. Звали его у нас Вася Гнутый. Говорили, что сам он когда-то, под хмельком, заявил о себе, что он «гнутый и ломаный». Вот к нему и прицепилось прозвище.
А держался он, наоборот, прямо. По народному выражению, как стопочка. Гимнастерка, галифе, сапоги — все было на нем аккуратно подогнано, все всегда начищенное, наглаженное. Был он не стар, но лицо уже покрылось морщинами. Всегда сурово, даже чуть жестоко смотрели серые глаза. На правой руке у него не хватало двух пальцев, на левой трех.
Ребята обычно больше знают об учителях, чем те предполагают. Мы, например, знали о нем многое. Знали, что у него тринадцать ранений. Знали, что плохо спится ему по ночам, что донимают его боли. Что он часто ходит в баню и крепко там парится. И тогда боли отпускают.
Я и сам видел однажды, как его вела из бани жена. С мокрыми спутанными волосами, в расстегнутом кителе, из-под которого выглядывала белая нижняя рубашка, а в треугольнике ворота кирпичной красноты тело, он шел, опираясь, чуть не навалясь на жену. А она осторожно вела его к дому, счастливым кивком отвечая на приветствие встречных «с легким паром». Счастливая была она: у ней вернулся, а у других все еще были «там», на войне.
Он с самого начала потребовал жесточайшей дисциплины, и это, разумеется, не понравилось нам. Мы невзлюбили его, но боялись. Однако постепенно мы стали проникаться к нему уважением. А потом взяли да и полюбили.
Дело в том, что он относился к нам как к совершенно взрослым людям. А как это нравится мальчишкам! И не было тут никакой педагогической хитрости. К педагогике Вася Гнутый вообще никакого отношения не имел. Он был фронтовик. И шла война. И раз ему доверили это дело — он готовил бойцов. Как мог и как разумел. Поэтому он преподавал одно и то же и малышам, и семиклассникам: школа была семилеткой.
Мы занимались разборкой и сборкой винтовки, чисткой и смазкой ее. Изучали ручную гранату. Изучали уставы. А на улице ходили строем с деревянными макетами винтовок. Было и наказание за нарушение дисциплины: ползание по-пластунски.
Но если семиклассники с макетами, — а среди учеников были и переростки, и второгодники, — выглядели более-менее солидно, то мы, вероятно, выглядели уморительно.
Вася Гнутый четко шагал сбоку от нашей колонны, то забегал вперед, то шел рядом и не спускал с нас глаз. И в тихом парке, где мы маршировали, звонко разносилась его команда:
— А раз! А раз! А раз, два, три!
Ходили мы и по селу. И тут Вася Гнутый заставлял нас ходить с песней.
Недавно я отыскал фотографию тех лет. Боже мой, до чего мы были смешны. Какие-то лопоухие, стриженные под нуль, в самой разнообразной и, прямо скажем, плохонькой одежонке. Некоторые в лаптишках. Сейчас вот идет так называемая акселерация. И когда я гляжу на своих детей или вообще на школьников младших классов, чистеньких, крепеньких, в форме, и вспоминаю ту фотографию — не знаю, смеяться или плакать. И в голову лезет совершенно дурацкий вопрос: неужели нас, таких замызганных, тощих, и прямо-таки некрасивых от частого недоедания и плохой одежонки, кто-нибудь мог любить — наши матери, наши учителя?
До чего же, наверное, смешны были мы, когда вышагивали по селу, отбивая «левой, левой», поднимая пыль, неся на плечах макеты вдвое больше нас самих. А рядом печатал шаг стройный, небольшого роста человечек в военном, упрямо и зло скрывающий свое недомогание, и оглушительно выкрикивал:
— А раз… А раз…
Видимо, мы были дьявольски потешны. Но никто из встреченных нами женщин не улыбался. Не улыбались и старухи, сидевшие на завалинках. Никто не улыбался. Неулыбчивое было время.
А я у Васи Гнутого оказался в чести. Он просто полюбил меня, поставил в голову колонны и не раз говорил мне на полном серьезе:
— Расти быстрей. В армии такие ох как нужны.
Дело в том, что я пел. Точнее будет сказать, не пел, а орал. Голос у меня такой, что и доныне могу перекричать целую компанию. Моя мать, учительница музыки и пения, когда пробовала заниматься со мной, вскоре зажимала уши и страдальчески говорила:
— Боже мой! Хоть бы дочку бог послал вместо тебя — было бы утешение. Слуху совсем немного, а орешь… Ну, пой ты потише, поточней. Вкладывай ты души побольше, а не ори так, что уши ломит.
Но то, что не нравилось матери, пришлось Васе Гнутому по душе. Когда мы вымаршировывали на середину села, Вася Гнутый забегал вперед колонны, пятился задом, проверяя, в ногу ли идем, и, глядя своими стальными глазами на меня, победно выкрикивал:
— За-певай!
Тут-то я и старался. Около школы, и в парке, и в других местах мы пели разные песни. А в селе всегда одну. Любимую Васину.
Во все горло, наполненный силой и гордостью от ходьбы в ногу, от того что запеваю, что на нас смотрят односельчане, я начинал:
И разноголосый ребячий хор, похожий, право же, на ораву беспризорников из старых немых фильмов, все эти мальчишки, да и девчонки в заплатанной одежонке, мелконькие, щуплые, радостно подхватывали:
— А раз! А раз, два, три! — даже багровел Вася Гнутый, перекрикивая нас.
А старушки и женщины провожали нас печальными взглядами. И некоторые, совсем невпопад нашему настроению, почему-то утирали привычным жестом слезы и даже крестились.
Школа помещалась в бывшей барской усадьбе помещиков Шишковых и отстояла от села метров на пятьсот. От усадьбы к реке вел прекрасный дубовый парк, спускавшийся не простым уклоном, а специально сооруженными когда-то террасами. Теперь дубам исполнилось очень много лет, и некоторые из них стали сохнуть, а некоторые даже и упали. На дубах было полно грачиных гнезд.
Здесь, на одной из террас, размещался наш «полигон». Тут соорудили и стенку для перелезания, и что-то вроде полосы препятствий. А рядом с поваленным дубом возвышалось чучело, на котором мы отрабатывали приемы штыкового боя.
Октябрь в тот год стоял чудесный. Вся площадка была покрыта сухим палым листом. Голубели дали, летела паутина, нередко еще пригревало солнце. Но нам было не до всего этого: мы овладевали наукой воевать.
Вася Гнутый выстраивал нас, раздавались слова команды. И на добрые четверть часа начиналось:
— На пле-чу!
— К но-ги!
Затем маршировали, преодолевали полосу препятствий, бросали гранаты, лазали через стенку, а под конец по одному выходили сражаться против чучела.
Многое за годы позабылось. Даже то, что учил в университете, наполовину позабыл. Но появись сейчас Вася Гнутый, а в руках у меня макет, а передо мной чучело, кажется, точно бы проделал все, что полагалось:
— Длинным коли!
— Коротким коли!
— Прикладом бей!
— От кавалерии закройсь!
Ох, и старались же мы, когда прошла у нас первоначальная нелюбовь к Васе. Но не всегда у всех все получалось. Иной и прозевает — «длинным коли» смахнет с носа не вовремя набежавшую капельку, а Вася Гнутый тут как тут. И ползешь по-пластунски.