Рябиновый дождь
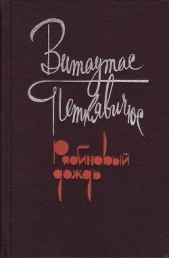
Рябиновый дождь читать книгу онлайн
Роман о сложных человеческих взаимоотношениях, правду о которых (каждый свою) рассказывают главные герои — каждый отстаивает право на любовь и ненависть, величие духа или подлость, жизнь для себя или окружающих. Автор задает вопрос и не находит ответа: бывает ли что-то однозначное в человеческой душе и человеческих поступках, ведь каждый из нас живет в обществе, взаимодействует с другими людьми и влияет на их судьбы. А борьба за свои убеждения и чувства, течение времени и калейдоскоп событий иссушают душу, обесценивает то, за что боролись. Или же есть надежда?
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Кажется, ничего интимного между ними и не было. Однако глаза перепуганной Гавенайте не стерлись из памяти Моцкуса. Бывая в этих местах, он вдруг ощущал желание, даже необходимость еще раз увидеть Бируте, поговорить с ней, утешить, хотя бы притронуться к ней рукой, как тогда… А не найдя ее, долго стоял у расщепленного молнией дуба и наблюдал, как тяжело умирает проживший несколько веков великан. Одно время Моцкус даже замыслил было посвататься к этой одинокой девушке, с которой так жестоко обошлась судьба, обдумал все подробности, но помешали его неопределенное, полное опасностей положение и неуемное желание учиться.
Моцкуса ранило. Рана была неопасная, но довольно глубокая. Пришлось вызывать врача из Вильнюса. Приехала женщина — средних лет, но очень милая. Она осмотрела рану, наложила швы, перевязала и, не дождавшись машины, осталась ночевать.
Они поужинали, он по-джентльменски уступил ей свою кровать, а сам собрался улечься на полу, бросив туда какие-то тряпки.
— Я принесла вам столько беспокойства, — стала извиняться она.
— Ерунда, ведь вы перевязали мне руку. — Он еще подумывал, не уйти ли ему в городок и переночевать у товарищей, но фитиль керосинки несколько раз мигнул и погас.
Они долго ворочались и не засыпали: его мучила боль, а врача… Трудно сказать, почему она металась на скрипящей солдатской койке, но ее тихие, ласковые слова Викторас расслышал сразу:
— Послушай, лейтенант, я уже не девочка, и если ты ляжешь рядом, меня не обидишь.
Его прямо-таки оглушили эти откровенные слова. И, разыгрывая многоопытного мужчину, Моцкус ответил:
— Я не привык убегать от опасностей.
Он не лгал, он не убегал никогда, но такого рода опасность подстерегла его впервые.
И они громко рассмеялись. Наверно, слишком громко, потому что в такой ситуации, как ни изображай из себя хладнокровного, причины для волнения все равно будут. И он волновался.
…Это была не любовь, не распутство, скорее — острая физическая и душевная потребность в ту холодную и мрачную послевоенную пору хоть на мгновение почувствовать себя не стрелком, не мишенью, а обыкновенным человеком, свободным от чувства долга и страха, принадлежащим только себе и этой сумасшедшей минуте.
Моцкус, еще несовершеннолетним пареньком очутившийся на фронте, и она, военфельдшер, не были слишком сентиментальны, они не давали друг другу торжественных обещаний, не клялись вечно хранить верность, но не испытывать доверия и нежного внимания друг к другу они тоже не могли. А Моцкус, человек долга, безгранично чуткий, испытывал к этой женщине чувство благодарности, которое, как показывает практика, очень часто сближает людей и порабощает их сильнее, чем любовь.
Утром она была весела и по-женски сдержанна, а он не отводил глаза в сторону и как умел ухаживал за ней, демонстрируя немного позабытую гимназическую галантность, а потом, когда схлынул первый наплыв чувств, они оба несколько преувеличенно заинтересовались холостяцкой жизнью друг друга.
— Викторас, тебе нельзя оставаться здесь ни дня. — Ее голос звучал дружески.
— Я сам знаю, — буркнул он, почувствовав к ней еще большую благодарность, — но куда мне деваться?
— Иди учиться, — ответила она. — Будь у меня такой фундамент, я бы не сидела сложа руки.
— Какой фундамент?
— Ты такой начитанный, а твоя память — просто чудо!
Он рассмеялся, вспомнив, что в гимназии учился довольно тяжело, ценой огромных усилий запоминая множество предметов. Но прошло столько времени… И когда его приятели-отличники почти все позабыли, его память выкинула штуку: весь, прежде с таким трудом заученный, школьный курс вдруг воскрес в пластах подсознания и с каждым днем все ярче и ярче вырисовывался в памяти. Его начитанность удивляла.
Как-то один приятель, усомнившись в знаниях Моцкуса, спросил:
— Откуда ты знаешь все это?
— Оттуда же, откуда и ты: ведь мы вместе учились.
— Не прикидывайся, ты, наверно, и теперь учишься?
— Говорю: в прошлом учился…
— Из прошлого люди только силу черпают, — не поверил товарищ.
А теперь то же самое говорит эта малознакомая фельдшериха… Моцкус с признательностью улыбнулся ей и спросил:
— Кто меня отпустит?
— Кто назначил, тот и отпустит.
— Утопия.
— Почему? Мой отец — довольно влиятельный человек. Я поговорю с ним, вот и все дела.
— Поговори, только боюсь, что ничего из этого не выйдет. — Он был уверен, что ее слова — лишь деликатный завершающий аккорд их коротенького романа.
Марина уехала, а через несколько дней его вызвали в Вильнюс.
— Тебе надо учиться, — повторил ее слова тихий и очень упрямый начальник отдела кадров, все время кормивший его железными аргументами: «Нам лучше знать… мы только советуем… есть такое мнение…» теперь он так же тихо согласился со всеми аргументами Моцкуса и даже разрешил ему выбрать, куда пойти. — Вы мечтаете об университете? — удивился начальник и улыбнулся, словно жалея его.
— Так точно.
Тот покачал головой, еще откровеннее ухмыльнулся в усы, а потом добавил:
— Я бы на вашем месте, имея такого покровителя, не стал так легкомысленно относиться к своему будущему.
— Если понадобится, и там словечко замолвит, — шутил Викторас.
— Может быть. — Он пожал плечами и на всякий случай добавил: — Университет, братец, это не милиция.
И он оказался прав: в университете надо было много, чертовски много работать, чтобы угодить единственному начальнику, называемому наукой. Но тогда Моцкус верил, что труд по сравнению с проклятыми выстрелами — это неземное счастье, рай, предназначенный только для избранных, поэтому весело улыбнулся начальнику, так неожиданно укрощенному женщиной, и, невзирая на его звание, ответил:
— С вашей помощью я уже и это почти позабыл.
— Только не дури. — Начальник снова стал грозным и неприступным.
«Какое свинство! — глядя на него, думал Моцкус. — Я целые ночи просиживал, портил глаза у керосиновой лампы, сочиняя длинные, хорошо аргументированные прошения, трезво взвешивая каждое „за“ и „против“, стараясь не показаться слишком назойливым, а он каждый мой рапорт перечеркивал убийственно холодным, никакой логикой не подкрепленным „нам лучше знать“». И вот теперь благодаря заступничеству малознакомой женщины Моцкус стоит перед этим чурбаном и чувствует себя свободным как птица.
Училось Моцкусу трудно — за все университетские годы он так и не снял шинель, только несколько раз перешивал ее, и она становилась все короче, — но он был счастлив, забывал про все невзгоды и ощущал огромное удовлетворение от новой, ни на что не похожей работы, позволяющей ему сомневаться, когда все кажется точным и логичным, дающей право спорить и состязаться с признанными авторитетами. Моцкус чувствовал себя просто всемогущим и с азартом мальчишки отдался математике. Он считал, что это наука наук, что всю деятельность человека, даже любовь, можно превратить в символы и цифры, а потом, выстроив их в ряды и формулы, основанные на законах и логике математики, без особого труда предсказать будущее и судьбу.
— Идея должна быть самой простои, — вначале он спорил только с равными себе. — Проникая во все сферы жизни, она может пользоваться сложнейшей методологией, может дать чудесные результаты, но суть ее должна быть понятна даже ребенку. Если бы Эйнштейн в молодости не подумал: «А что случится, если я буду бежать быстрее света?» — он никогда не сказал бы: «Прости, Ньютон, но ты уже не прав!»
Моцкус не хвастался, ибо не хотел, чтобы над ним смеялись не понимающие его. Он работал, как одержимый зубрил иностранные языки, читал — и проверял, читал — и соглашался, читал — и возражал, читал — и осуждал, читал — и творил. К каждому новому делу, к каждой интересной книге он прикасался с каким-то внутренним трепетом — так поднимаешься в атаку, имея одинаковые шансы вернуться с победой или остаться вечно живым в памяти товарищей… Яростное беспокойство не оставляло Моцкуса, пока он не добивался своей цели, пока, опустошенный, но счастливый, не мог сказать себе: а все-таки она вертится, черт меня подери!..


























