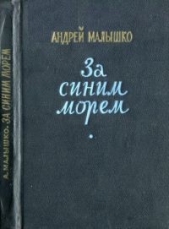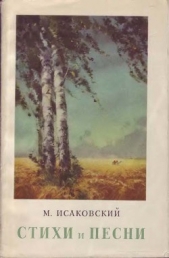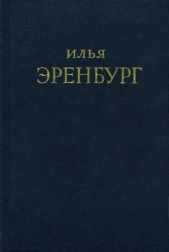Чайка

Чайка читать книгу онлайн
Книга о жизни, борьбе с немецко-фашистскими оккупантами и гибели замечательной патриотки, коммунистки Екатерины Волгиной, прообразом которой послужила легендарная партизанка, Герой Советского Союза Лиза Чайкина.
Произведение было удостоено Государственной премии СССР.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
По глазам ее было видно, что говорила она серьезно, убежденная в своей правоте, и Василиса Прокофьевна не стала продолжать разговор. А на душу легла обида: считала, что Катя обкрадывает не только себя, но и ее. Подержать бы на руках внучонка от нее, полюбоваться им, вынянчить, и тогда бы старое материнское сердце успокоилось, сказало бы: «Все есть. Ничего больше мне не надо от жизни. Была она жестка смолоду, да под старость не поскупилась, сполна все радости выплатила, которые человеку от бога изведать положено». Война притупила эту обиду, спрятала ее в глубь души, а минувшей ночью почему-то опять эта обида наверх поднялась. Может, потому, что механик очень приглянулся и не раз за ночь подумалось: «Вот бы зять, лучшего и желать не надо».
И еще эта звезда, что камнем вниз полетела… Как вспомнишь о ней, словно кто шилом в сердце кольнет. «Не жильцы те на свете, которым в глаза звездный свет перешел. Ой, не жильцы! Время-то какое, господи! Многие теперь не жильцы».
Дзиндзи-взи… Дзиндзи-взи…
Комсомолка остановилась так неожиданно, что Василиса Прокофьевна чуть не зацепила ее пяток косой.
— Что, милая?
— Заело! — потрогав лезвие, раздраженно вскрикнула девушка. Она побежала к канаве, возле которой, оттачивая косы, сидел дед Василий, а Василиса Прокофьевна заняла ее место. Старик Семен шел легко, точно приплясывая. Коса его плавно описывала полукруги. Покорно и будто вздыхая падала на землю рожь.
— Тянись, Прокофьевна! — крикнул он.
— Тянусь, Семен, изо всех сил тянусь, — отозвалась она и оглянулась. Позади нее, стиснув зубы, шагала незнакомая ей девушка.
Дзиндзи-взи… Дзиндзи-взи… — ритмично пела ее коса.
Из-за плеча этой девушки виднелось посеревшее лицо Даши, дочери Лукерьи Лобовой. С утра она взялась горячо, а сейчас, видно, взмахивала из последних сил. На глазах ее поблескивали слезы, губы растерянно улыбались, и посвист косы звучал не так, как у других: ди-и-зи… ди-и-зи…
Рожь тоже падала не сразу, а покачивалась, как бы раздумывая.
— Даша, передохни! — крикнула Василиса Прокофьевна.
— Нет, — сердито ответила девушка и распрямила плечи.
Дзиндзи-взи… Дзиндзи-взи…
«Упорная… Сразу видать — ожерелковская. Ожерелковские все упорные», — подумала Василиса Прокофьевна, и вдруг в спине у нее словно что надломилось — хрястнуло.
— Господи, не попусти, — охнула Василиса Прокофьевна.
— Ты что, Прокофьевна? — обеспокоенно спросил Семен.
— Ничего, Семен, ничего.
Поворот плечом — шаг… Поворот плечом — шаг…
— Веселее, милые, поднажмем, ребятушки! — крикнула она хрипло.
Дзиндзи-взи… Дзиндзи-взи…
плыла над пшеничным полем песня. Это на участке Мани Волгиной. Здесь жали серпами, но работа спорилась не так быстро, как у клина леса. Больше половины жней — девчонки от десяти до четырнадцати лет. Ожерелковские, те еще тянулись за женщинами и девушками, а городские пионерки отставали: к серпу нужна привычка да привычка. Шли не рядом, а врассыпную.
На скирдовке снопов командовал отец Лукерьи — Игнат Лобов.
Последние пять лет дальше своего дома он никуда не ходил, а зимами, охая от ревматических болей, отлеживался на печке. Но сегодня не вытерпел. Опираясь на палку, еще затемно вышел из дому и к полудню добрел до поля, разыскал председателя.
— Под силу мне чего не найдется ли?
Филипп Силов вспомнил, что о старике Игнате в свое время ходила слава как о лучшем скирдовальщике. Он умел так укладывать снопы, что зерна не вышелушивались, ветер обдувал снопы ровненько и дождь мочил одну лишь солому.
— Найдется! — Филипп указал на бегающих со снопами пионеров и пионерок: — Вот тебе, дед, работники, командуй.
И дед стал «командовать».
Высокий, костлявый, с белой, как первый снег, бородой, опираясь на палку, он ковылял от скирда к скирду, и, выделяясь в звонком галдеже детских голосов, дрожал его старческий, с хрипотой, голос:
— Без суетни, робятки, без суетни. Раз хорошо положить — десять раз не перекладывать.
«Разве так выглядело поле в прошлогоднюю уборку? — вытирая с лица пот, подумала Маня. — До десятка комбайнов работало. Не надо было ни крестцов, ни скирдов. Зерно бежало по желобам — успевай только мешки подставлять. Весело перекликались голоса. И если в том или другом месте раздавался крик: „Дава-а-ай! Эй, давай, не задержи-и-вай!“ — то от этого радостно замирало сердце, и ответный крик сам из груди рвался: „Ого-го!.. Давай!.. Не задерживай!“ Если же какой участок требовалось сжать, то жнеи подбирались одна к одной. Хлеб стоял стеной, и они шли на него стеной, и падали золотистые полосы ровно, точно по линеечке. У дружной, слаженной работы — своя душа. Она и в воздухе чувствуется, ив крови проходит, и сердце захватывает так, что ни усталости, ни времени не замечаешь. Теперь не то, совсем не то… Не слышно голосов, от которых трепетным жаром охватывало бабьи и девичьи сердца. Обезмужичила деревня. Тоска. Оглянешься, а позади пшеница лестницей вырезана. Режут ее девочки, и серпы ерзают у них в руках. И после этой оглядки кажется, что хлеба впереди еще гуще, выше и шире — в небо уперлись. И руками ли девчонок это шумное море свалить! Легче Волгу кувшинами вычерпать. Нет, уж лучше не оглядываться».
Позади поднялся шум. Светловолосая, худенькая пионерка, с двумя косичками, выпустила из рук серп и, опустившись на землю, разрыдалась.
— Н-не м-могу… Жать б-больше не м-могу! — выкрикнула она заикаясь.
Марфа Силова обняла ее.
— Да что ты, касатушка? Разве тебя силком кто приневоливает? Сама заохотилась. А это что же… Вестимо, не под силу. Бабье дело, не детское. Ишь, руки-то… И мыто, дуры, согласились. Иди, касатушка, в свою палатку, отдохни, а потом… говорят, все же придет подмога-то. Иди, милая…
Марфа приподняла ее. Девочка покорно сделала несколько шагов и остановилась.
— Не пойду! Д-другие м-могут, и я с-смогу. Схватила рукой пук стеблей, скрипяще врезалась в них серпом. Плечи ее в последний раз дрогнули от затихающих рыданий.
— Я эт-то т-так с-сказала. Я с-смогу.
— Ох, отзовутся вам эти слезки, злыдни, — прошептала Марфа.
Одна из пионерок, вязавших снопы, тронула ее за рукав:
— Теть, а теть! Вы бы отдохнули чуть… От вас пар…
— Что ты! В уме ли, девка? Вам это нужно — вы маленькие, а нам…
Марфа приложила серп к стеблям, но не перерезала их; выпрямилась и настороженно слушала. Гул комбайнов стал жиже: казалось, грохотали не обе машины, а только одна. Оттуда, где работали комбайны, доносились взволнованные голоса, что-то кричали там, а что — никак не разберешь.
— Горючее все, — близко прозвенел детский голос, и Марфа вздрогнула.
— Бабоньки! Горючее!
— Ой! — вскрикнул один из пионеров и выронил серп: из левой руки, которую он прижал ко рту, капала кровь.
— Еще не легче! — Марфа сдернула с головы платок и подбежала к мальчику, чтобы перевязать ему руку.
Поднялся шум:
— Не надо детей допускать к серпам!
— Одни управимся!
— А не управимся, так и на их жнивье далеко не уедешь! — Покалечат только себя!
— Что случилось, товарищи? — прозвучал встревоженный голос, и шум разом оборвался; в кустах, начинавшихся у крайнего скирда, стояла Катя. Подойдя к пионеру, она осмотрела его пораненную руку и раздраженно сказала кареглазой комсомолке с добродушным усеянным веснушками лицом:
— Никонова! Я, кажется, просила, чтобы пионеров, особенно тех, которые никогда в жизни не держали в руках серпа, к жнитву не допускать!
— Катюша, да разве сдержишь их? — горячо проговорила та.
— Вот Нина — ладони в кровь истрескались, плачет, а серпа не отдает… И потом, думаешь, ничего… В свое время мы ведь тоже к серпу с этих лет привыкали…
— «В свое время», — гневно передразнила ее Катя. — Ты зачем, Коля, серп взял? — спросила она пионера.
Губы мальчика дрогнули; слезы, которые он до сих пор сдерживал, стремительно хлынули на щеки.