Большая родня
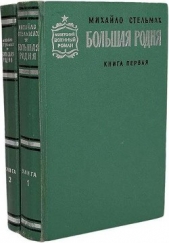
Большая родня читать книгу онлайн
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
— Моя.
— Ну, принимай и меня к себе. Одному, как волку, блудить никак не получается. А перины у тебя едва ли из гусиного пуха, — большой рукой тронул кровать, застеленную дерюгой с вала. И на суровом лице появляется подобие улыбки, шевелящей корявые брови и разглаживающей глубокие складки надбровья.
XXV
На сгорбленном, подырявленном полузаплывшими воронками поле встретились сгорбленные деды.
— Эх, ребята, ребята… Что оно делается теперь? — вместо приветствия, как-то безнадежно махнул рукой Семен Побережный, и его веки в твердых прожилках забились черными тенями. Небольшое, сухое, как грецкий орех, лицо старика после смерти младшего сына еще больше ссохлось, еще больше потрескалось кривыми покрученными морщинами.
— Да-а… Теперь и поля — не поля, и жизнь — не жизнь, — ни к кому не обращаясь, вздохнул Кирилл Иванишин. — Живешь словно не на земле, а на туче: вот-вот в бездну провалишься. Лучше было бы и не доживать до такого часа… Как святую ниву испортил фашист. Стебель на труху перемолол, колос в грязь втоптал, а еще неистовее топчет человеческую судьбу, жизнь в могилы вгоняет.
— Кто сам долго не собирается жить, тот все живое со света сводит, — двумя обледенелыми росинками сверкнули красные глаза Иосифа Киринюка.
— Эх, ребята, ребята… — клочком тумана качнулась жиденькая, с просветами борода Побережного. Мысли, воспоминания, тоска так налегли на него, что он больше ничего не может сказать и возвращается к реке: пусть не видят люди влаги на запечалившихся глазах.
Над самым Бугом из мрака пароходом очерчивается его новая осиротевшая хата. Как она еще недавно радовала глаза старика, потому что только счастливые дороги сходились и расходились от нее. Знатные земледельцы приходили к Захару и Семену, приезжали рабочие с суперфосфатного завода, не миновали их дома и Иван Васильевич и Геннадий Павлович. Здесь обсуждали, как лучше засеять поле, и сокрушались о судьбе Абиссинии; здесь детские ножки впервые становились на землю родителей, и сюда приходили письма от воинов, у самой границы оберегающих Родину; здесь восхищались мужественным словом Ибаррури и плевались при одном упоминании о предателях Мюнхена и желали им не меньше сотни болячек в печенки.
— Помните, как мы эту ниву с Иваном Васильевичем обследовали? — вспоминает Киринюк. — Вошел он в рожь, колос лицо ему обвевает, а он даже глаза не закрывает: так была дорога Ивану Васильевичу наша мужицкая работа.
— Потому что партийный он человек, сердце человеческое имел.
— Имел и имеет, — тихо поправляет Побережного Киринюк.
— Верно, верно, — быстро спохватывается Побережный. — Только где он теперь? Хоть бы одно слово услышать от него, долго ли такое безголовье будет… Ты, Йосип, не слышал, как здоровье Ивана Тимофеевича?
— Да какое там здоровье! Лежит. Тяжело осколки его изрешетили. С ногой плохо.
— А с сердцем, наверное, хуже, — в морщинах Киринюка скупыми слезами блестят едкие капельки тумана.
— Оно так у каждого порядочного человека.
— У каждого…
И не сговариваясь, деды побрели туманом к Ивану Тимофеевичу.
Марийка встретила стариков во дворе, охнула, засуетилась, жалостно улыбнулась и, привычным движением поправляя платок, повела гостей в хату.
Иван Тимофеевич, пожелтевший и осунувшийся, высоко лежал на широкой кровати.
И только теперь деды увидели, что его голова совсем побелела, а от уставших глаз великим множеством лучиков расходились мягкие стариковские морщины.
«Эге, уже и к Бондарю шестой десяток стучит» — впервые подумал Киринюк, осторожно садясь возле кровати, ему, как и всем в селе, знающим характер Ивана Тимофеевича, никогда даже в голову не приходило, что Бондарь не молодой уже человек.
— Спасибо, добрые люди, что пришли, — тихо звучит голос Ивана Тимофеевича. А Киринюку все не верится, что Бондарь лежит в постели. Нет, то он говорит со сцены большого зала, и слова его, как голуби, порхают до крайней двери, где всегда любил молчаливо сидеть среди молодежи старый кузнец.
— Эх, Иван, Иван, как тебя горе побелило, — качает головой Иванишин. — А когда-то я тебя на руках носил. Давно это было… Умирать бы пора мне.
— А не рано? — так же тихо спрашивает Иван Тимофеевич.
— Чего там рано. Теперь жизнь, поверь, не стоит ломаного гроша, — прибедняется Иванишин, как прибедняются старые люди, зная, что их речь примут с сочувствием.
— И вы так думаете? — обратился Иван Тимофеевич к Побережному и Киринюку, и на его устах шевельнулась такая знакомая хитроватая улыбка, что даже Марийка повеселела.
На нее недобро покосился Побережный.
— Ты бы, женщина добрая, метнулась себе по хозяйству, что ли.
Марийка вспыхнула и, краснея, вылетела во двор.
— Бомбой метнулась, — сообщил Побережный, заглянул во все уголки, сел возле больного и горячее заговорил: — Думай не думай, Иван Тимофеевич, а просвета ну никакого и на маковое зерно нет. Все лучшее уехало, отошло от нас. Сыны, как лета молодые, отошли. Где они теперь? И цветом ли цветут, или белым снежком обмерзают? А что мы, старые, без молодой силы? Стерня пустая… Вот хоть бы крошку правды услышать… Чтобы наша партия откликнулась к нам, так мы бы уж знали, как жизнь ценить. А как же иначе? Ведь партия — это наш Большой путь и сыны наши… Самые лучшие, как зерно наливное.
Затихло в доме. Все с напряжением ждали, что скажет Иван Тимофеевич. И он, вытерев рукавом липкий болезненный пот, сосредоточенно неспешно заговорил.
— Вы, люди добрые, прибедняться начали, как единоличники прибедняться. И это плохо. Цените жизни свои, они еще пригодятся! А жизнь фашистов, полицаев, старост в самом деле ломаной копейки не стоит. Из грязи они возникли и умрут в грязи.
— Это так, это так, — закивал головой Киринюк.
— А слово партии, — заволновался Иван Тимофеевич, — вы каждый день услышите, только умейте прислушиваться к нему. О взрыве на железной дороге знаете?
— Слышали… Говорят люди: два санитарных поезда вывозили побитых и искалеченных «цюрюков».
— Вот вам первое слово партии: так надо делать с фашистами. Об уничтожении полицаев и старосты в Ивчанце знаете?
— Почему нет… Туда им и дорога.
— Это второе слово партии: так надо расправляться с предателями, оборотнями и разными недоносками… Ждановский лесопильный завод знаете?
— Как не знать. В тридцатом году вырос, чтобы скорее строились мы.
— И стоял он до того дня, пока не захотели враги хозяйничать на нем. Только успели они распустить первые бревна, аж ночью лесопильня ясным огнем поднялась вверх. Это третье слово партии: ничего, кроме смерти, не оставлять врагам.
— Правду говоришь, Иван Тимофеевич.
— Искру увидели.
— Значит, и теперь, как всегда, партия с нами.
— Как всегда! — крепнет голос Ивана Тимофеевича. Уже не вытирая пот с лица, он откуда-то достает небольшой лист клетчатой бумаги и почти наизусть читает:
«Народ Украины!
Поднимайтесь все на помощь Красной Армии. Приближайте день освобождения!
В каждом селе, в каждом городе организуйте партизанские отряды!
Все в партизанские отряды, все на разгром врага!
Смерть немецким оккупантам!»
— Печатная! — многозначительно сообщает Побережный. — Кто подписался?
— Подпольный обком КП(б)У.
— Ну, тогда дело на твердой основе стоит, на твердой… Иван Тимофеевич, дай нам этот документ. Мы его в каждой хате, в каждом надежном доме, как закон, прочитаем.
— Берите! — и Иван Тимофеевич подал удивленным дедам не одну, а три открытки.
— Спасибо, Иван Тимофеевич, — благодарит Побережный и строго обращается к старикам: — А попадет, ребята, кто в беду, говорите — нашел на поле, аэроплан сбросил… Пусть ему всякие недоноски на хвост соли насыпят…
В это время заскрипела калитка, во дворе певучее затрещал мужской голос, забивая слова Марийки. Деды начали подальше прятать открытки. Скоро в дом, цепляясь за косяки, ввалился подвыпивший Поликарп Сергиенко.

























