У памяти свои законы
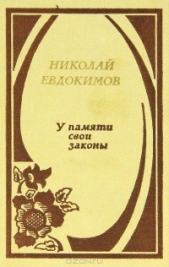
У памяти свои законы читать книгу онлайн
Новый роман Николая Евдокимова — правдивое, острое произведение, повествующее об ответственности советских людей друг перед другом и перед обществом.
Написанный со свойственным Н. Евдокимову лиризмом, с тонким проникновением в психологию героев, роман ставит ряд важных морально-этических проблем.
Занимательность сюжета, жизненная достоверность, своеобразная композиция этого произведения несомненно увлекут читателя.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Я выронила дрова, убежала в дом и целый день тогда проплакала, с ненавистью думая о нем, кто так безжалостно, так трусливо бросил меня. На Лукерью я не обижалась, она не хотела уязвить меня, она сама испугалась за меня, потому что испокон века простой народ считал одним из самых позорных грехов грех девки, не уберегшей себя. Да и сама я, в общем, была воспитана так же.
Если бы я жила в Москве, кому бы какое было до меня дело в той многолюдной толкучке, но я не в Москве жила, а на крохотном пятачке, где муха чужая не пролетит, чтобы не быть замеченной. Я не могла все время отсиживаться дома, и когда выползала в магазин или на базар, то шла по поселку, будто босиком брела по усыпанной осколками стекла дороге. Я чувствовала на себе людские взгляды, слышала шепот, и, хотя люди улыбались мне, здороваясь, я не верила их улыбкам, их добрым глазам. Срамная, я шла по поселку, краснея, опустив голову, а рядом плелась огромная тень моего живота. Теперь мне это смешно, и удивительно даже, что я могла быть такой глупой, но тогда, тогда я все больше отгораживалась от всех, чувствуя не то чтобы ненависть, но злость к людям.
У меня было много времени, чтобы размышлять. И я размышляла, я думала о том, как злы, лживы, жестоки и двулики люди, от которых за последние годы я не видела ничего, кроме предательства. Тому живется хорошо, кто думает о себе, кто жесток, безжалостен, у кого одна мораль — собственный покой и благополучие. В иных принципах воспитывал меня отец. Но то, что он вещал о доброте, о вере в людей, то не спасло ни его, ни меня. И даже отца его, деда Алеху, это не спасло. Злой надо быть, жестокой и думать только о себе.
Была ранняя весна. Горы стояли, как в пуху. Море шумело уже совсем по-летнему — раскованно, звонко. Земля пахла теплом. Через огород бежал ручей, он стремился зарыться поглубже, и чавкал, и урчал, и бормотал что-то. Ветер стучал дверцей в сарае. Я не закрывала ее, пусть стучит, но однажды, увидев из окна, как она болтается на петлях и жалобно, плаксиво скрипит, я пожалела ее, вышла, чтобы привязать, и словно впервые увидела и ручей, и горы, и будто со стороны взглянула на себя, устыдившись своего грязного платья, огромных бабушкиных валенок, задубелых рук. Я подошла к сараю, привязала дверцу и вдруг услышала — не почувствовала, а услышала, — как кто-то осторожно ударил меня в живот. И поняла, что это стучится он, ребенок. Я засмеялась, сказала: «Здравствуй» — и долго стояла, ожидая, когда он ответит мне. А потом я пошла в дом, нагрела воды, вымылась, переоделась, собрала в сумку кое-какие вещи, надела папины часы, которые хоть и были мертвы, но все же словно придавали мне силы, и пошла на пристань.
Я хотела быть злой, я ничего не хотела прощать. Я решила ехать в Москву, потому что теперь была не одна, потому что у сердца моего стучался ребенок, которому нет дела до обид и подлостей тех, кто дал ему жизнь.
«Агат» — все тот же неизменный «Агат» — вышел на большую воду, и, когда скрылся берег, я села на носу, глядя на синий горизонт. Дул ветер, из трубы «Агата» валил черный вонючий дым. У меня кружилась голова от этого дыма, уши заложило от стука машины, стало холодно. Я спустилась вниз, но в тесной каюте, пропитанной потом, табачным дымом и рыбой, было еще хуже. Меня укачало, во рту стояла соленая слюна. Я прилегла на жесткие нары, но и лежать не смогла и снова выползла на палубу.
Меня вырвало. А потом весь день я лежала на корме, борясь с тошнотой и ознобом. «Агат» приваливал к пристаням, брал новых и новых пассажиров, палуба уже была полна людьми. Они ходили вокруг меня, мимо, рядом, возле ног, головы, я с ненавистью смотрела на чьи-то сапоги, воняющие дегтем, на грязные туфли, боты, калоши, со страхом прикрывая иззябшими руками холодный и молчаливый живот.
Изредка кто-либо наклонялся ко мне, говорил что-то, советовал лечь так или эдак, совал стакан с водой или кружку с молоком, но я молчала, стиснув зубы, совсем не испытывая благодарности к этим сердобольным людям, а только злясь на их назойливость, зная наперед, что едва мы придем в город, как они забудут обо мне и бросятся к сходням, расталкивая друг друга.
И я не ошиблась. Едва в вечерней мгле показались огни порта, как все рванулись к своим чемоданам, узлам и мешкам, кто-то отдавил мне ногу, и я села, обхватив руками колени, брезгливо смотря на эту бессмысленную толчею.
От причала до железнодорожного вокзала — пятьсот каких-нибудь метров — я добиралась, наверно, целый час. Я уже не была уверена, что мне надо в Москву, и брела к вокзалу по инерции. На Москву билетов не было — люди, заполнившие тесный зал ожидания, сидели здесь уже третьи сутки. Плакали дети, женщины покрикивали на них, матерились, и гоготали какие-то парни в сапогах-гармошках. Даже если бы я хотела вернуться в Новоморской, я все равно должна была бы ждать до утра: «Агат» уйдет только утром. Но я не хотела возвращаться. И ждать я не могла, у меня не хватит сил ждать. Я открыла дверь с табличкой «Начальник вокзала», сказала сидевшему за столом худому, лысому человеку, удивляясь своей решительности:
— Мне нужен билет до Москвы!
— Да? — устало спросил он. Он спросил это так устало и так добро, что я, приготовившись быть отважной и назойливой, вдруг заплакала.
— Голубушка, милая, ну если б я мог, — говорил он беспомощно и виновато, а я захлебывалась слезами и совсем уж бесстыдно тыкала пальцем в свой живот:
— Я беременная, ну, пожалуйста.
— Милая, прости заради бога, но нету у меня, нет… Тут таких, как ты, с десяток собралось. Как звать-то тебя?
— Зина.
— Ну, не серчай, Зина, поезда-то не в моем распоряжении — проходящие. Дочь с ребенком отправить не могу, поверь.
Я ушла, разыскала свободную лавку, легла, подложив под голову сумку. И как легла, сразу поняла, что встать уже не смогу: меня трясло мелкой дрожью. Хотя я была недоучившийся врач, но знаний моих хватило, чтобы понять, что я не продержусь и часа. По радио объявили, что пришел местный поезд. Он отдувался, пыхтел где-то за стеной. Бородатый мужик, огромный, квадратный, с мрачным лицом, сошедший, наверно, с этого поезда, прошел мимо меня. Потом вернулся, сказал:
— Подвинулась бы.
Я поджала ноги.
— Ты из Новоморского, что ль? — угрюмо спросил он.
Я молчала.
— Если на «Агат», вместе ночь будем коротать. За мешком пригляди.
Поставил у меня в ногах мешок, ушел куда-то. Скоро вернулся, молча сел, достал из мешка бутылку молока, заткнутую газетой, булку, стал есть. Косматая борода его ходила то вверх, то вниз, а лицо стало еще свирепее. Я боялась его, злилась, что он расселся тут и чавкает.
— Пожевать не охота ль? — спросил он.
Я молча отвернулась и закрыла глаза. Я закрыла глаза, и будто упала в темную пропасть, и уже ничего не слышала и не видела.
Мне казалось, я спала недолго. И хотя сон этот был тяжелым, он будто бы облегчил меня. Первой моей мыслью было, когда я очнулась, скорее бежать к кассе за билетами, но я лежала, не имея сил открыть глаза. А потом открыла, увидела над собой белый потолок, ряды кроватей и поняла, что лежу в больнице.
Я думала, что с той минуты, как я заснула на вокзальной скамье, прошло всего несколько часов, но прошло не несколько часов, а десять дней.
— Ну, очухалась, поздравляю, — сказала санитарка.
А потом открылась дверь, и в палату вошел тот бородатый свирепый мужик, который так напугал меня на вокзале. Я и сейчас испугалась, увидев его, зажмурилась. Я слышала, как он подошел, сел на табуретку. Он сидел, а я ждала, что он начнет чавкать, сопеть, но он не чавкал, не сопел. Я не понимала, что ему надо от меня, и открыла глаза, а он наклонился, сказал:
— С очнутием!
Не так уж он был страшен, как казался издалека, и я, уже не боясь его, ответила:
— Спасибо.
— Удачно я подоспел, — сказал он, — а то намедни все гостинцы другим раздарил. Дома у тебя в порядке, сюда ехал, по пути заглянул. Дверь-то ты не заперла. Тепа! Вот ключ.
Он улыбнулся, и я улыбнулась, мучительно стараясь вспомнить, видела ли я его когда-нибудь раньше? Нет, не видела.


























